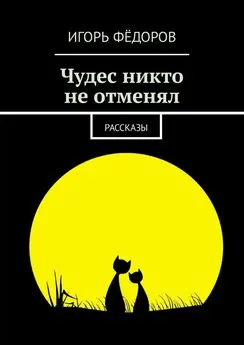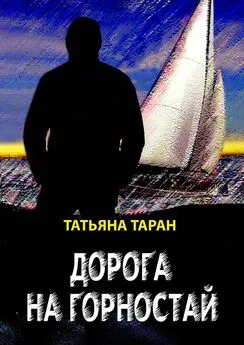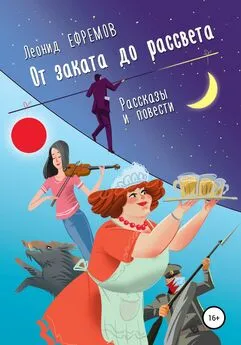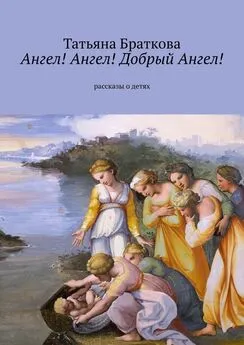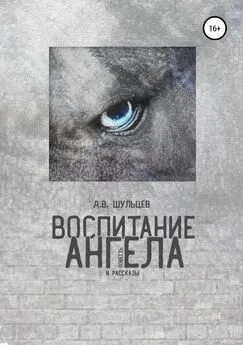Татьяна Таран - Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока
- Название:Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449098467
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Таран - Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока краткое содержание
Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Семибратов знал, что его приятель летом, во время отпуска, на своём «вездеходе», джипе «Мицубиси паджеро» лохматых годов, ездит на пленэры. Благо мест вокруг, полных чудес природы, достаточно. Делает наброски, этюды, а зимой творит свои шедевры.
– Приходи, сам посмотришь. Есть пара картинок, не стыдно людям предложить, а остальные – не знаю. Ширпотреб, как обычно, – Петров не лицемерил, принижая свой труд.
Он на самом деле не понимал, что такого необычного и красивого находят покупатели в его морских зарисовках? Одно полотно от другого отличалось лишь разным рисунком береговой черты, ну, ещё временем суток и года. Хотя зимы в его «портфолио» не так уж и много. Что интересного в тверди льда? Другое дело – живое море. Оно же играет! Волной прибоя, отблеском солнца, тенью от чайки, рябью от ветра…
– Ну, всё, считай, замётано! Завтра с утра заскочу к тебе в мастерскую, выпиши мне пропуск на вахте, не забудь.
Павел осмотрелся вокруг. Все картины в рамах, висят рядком на стенах, хоть прямо здесь выставку открывай. На полках привычный порядок. Как в гараже у автомобилистов советских времён, когда «Запорожцы» и «Москвичи» требовали постоянного ремонта и все запчасти аккуратно раскладывались по ящикам и стеллажам – для быстрого поиска нужных. Так и у Петрова в мастерской – всё по полочкам.
За неполных тридцать лет, что он здесь провёл, он мог бы теперь с закрытыми глазами, на ощупь, найти мольберт, кисти, мастихины, коробку с красками, банку с белилами, палитру, лак. Всё на своих местах, всё, как всегда. Рисовать только вслепую не смог бы.
«Что за дурацкие мысли? – ругнул сам себя Павел. – Живи и радуйся, смотри на мир широко открытыми глазами!»
Художник сунул телефон в карман брюк и засобирался домой. На ходу выключил свет, запер мастерскую и вышел из цеха. У турникета заводских ворот попросил вахтёра выписать на завтра пропуск для Семибратова и оставить его под стеклом для следующей смены. От проходной до его квартиры – полчаса неспешным шагом. В любую погоду, утром и вечером, он шёл знакомым маршрутом. Сначала вдоль причальной стенки, потом по внутренней заводской дороге, затем по городским улицам.
Совсем недавно, в каком-то ретроспективном показе по телевизору он посмотрел старый советский фильм «Весна на Заречной улице». Главный герой задушевно пел про «заводскую проходную, что в люди вывела меня». Павел подумал тогда: в люди – не в люди, а кусок хлеба на моей проходной всегда был, и даже с маслом иногда.
2
Работу по специальности Павел получил случайно. Отчим, боцман сухогруза, выписывал ведомственную газету «Дальневосточный моряк». В отпуске он прочитывал её в день выхода, доставая по субботам из почтового ящика. А когда был в длительном рейсе, мать складывала еженедельник в стопку на обеденном столе, и та вырастала за полгода толщиной в два тома «Войны и мира». Так, за ужином, и попалось на глаза Павлу объявление: «Ремонтному заводу требуется художник-оформитель. Общежитие предоставляется».
Второе обстоятельство сыграло роль даже большую, чем возможность работать по профессии. Петрову до крайности надоели ежедневные поездки на электричке – сначала в художественную школу, а потом и на занятия в вуз.
Старый дом на пригородной станции Чайка – родовое гнездо Петровых – давал кров уже третьему поколению. Дед, построивший его в пятидесятых годах, имел своё представление о комфорте. Просторный зал с тремя окнами на залив, с массивным круглым столом по центру, который, по его представлению, должен был служить объединяющим началом для большой семьи.
Но её не случилось. Родилась только одна дочь, Валентина, мать Павла. Замуж не вышла, но к тридцати её годам ребёнок в доме появился. Престарелые родители уже были рады и такому варианту от непутёвой, по их мнению, дочери…
– А телёночек-то наш в дедову масть, – говорила баба Нюра, гладя черноволосого пацанёнка по голове.
В доме было ещё две крохотных спальни, с кроватями «на чурочках». Опорой для ложа служили распиленные поперёк стволы деревьев – чурки, поверх которых укладывались сбитые в настил доски. А уж на них сверху – перина. Настоящая, куриным пухом набитая матрасовка. Тяжёлая, как поддон с кирпичами, но мягкая и тёплая даже в феврале, в продуваемых северо-западным ветром комнатах. Не учёл, однако, дед-переселенец местную зимнюю розу ветров. В одной спальне обитали дед с бабкой, во второй мать с младенцем.
Была кухня, где кроме печки стоял шкаф, тоже сработанный умелыми руками деда. Шкаф имел гордое название «секретер». На верхнем ярусе хранилась посуда и специи. Стоило открыть стеклянные дверцы, как в нос ударяли запахи корицы, лаврового листа, мяты, чего-то ещё. В середине конструкцию соединяла деревянная столешница, на которой мать кромсала овощи для борща. А внизу, за раздвижными деревянными створками, хранились запасы муки, сахара, крупы. Иногда там попадались и конфеты.
Самодельная мебель пережила своего мастера. А бабушка после похорон деда легла на кровать и через два месяца ушла вслед за ним. Павлу было тогда пять лет, и он почти ничего не помнил из того времени, только лежащую в спальне бабу Нюру.
Отца своего Петров не знал. На эту тему в семье не распространялись. Отчество у него было от деда – Семёна Лукича. Отчим в доме появился в шесть павликовых лет, когда мать, уставшая в одиночку справляться с бесконечными бытовыми хлопотами, привела моряка и сказала:
– Дому нужны мужские руки. Будь хозяином, а мы с Пашкой как-нибудь пристроимся.
Несмотря на длинные отлучки в рейсы, дядя Лёша (так Павлику было велено называть отчима) дом содержал отлично. На веранде соорудил кладовую, в которую с пароходов перекочевывала краска, олифа, кисточки, растворитель, разный слесарный инструмент.
– Команда! Аврал! – Громыхающий с утра бас дяди Лёши-отпускника означал для Павлика работы по благоустройству дома. За каждую окрашенную штакетину отчим платил пацану по копейке. Половину забора покрасил – и можешь бежать в поселковый магазин за стаканчиком сливочного мороженого, которое стоило девятнадцать копеек.
Пашка не считал это трудовой повинностью, не отлынивал. Ему даже нравилось превращать облезшие от солнца и ветра доски в сияющую новыми красками ограду. И запах ему нравился. Только руки всё время были испачканы, как ни старался уберечь их юный маляр.
Дом стоял сразу за железнодорожной платформой. В расписании электричек с двух до пяти вечера был перерыв, и в это время мать, работавшая кассиром на станции, успевала накормить обедом Павлика и усадить его за домашние задания, а потом снова шла на работу.
Мальчишка, побросав книжки в портфель, бежал к своим друзьям, к их общему штабу – старому лодочному гаражу, задней стенкой воткнутому в отвесный берег. Бежать – это выскочить на крыльцо, потрепать за ухо сторожевого Бима и через огородные грядки скатиться по крутой тропинке к берегу моря. Этот путь занимал не больше двух минут.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
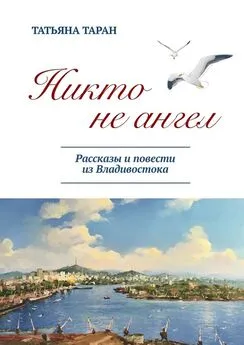

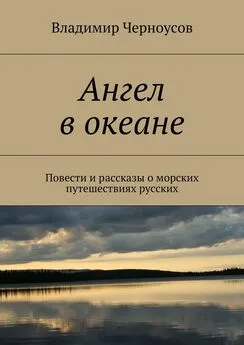
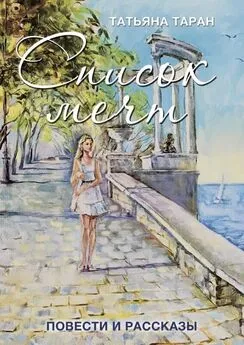
![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/1104880/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i.webp)