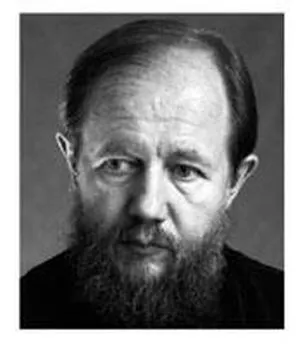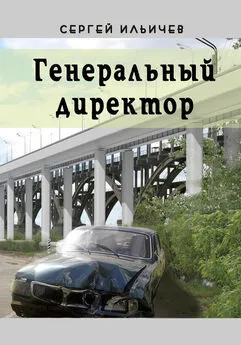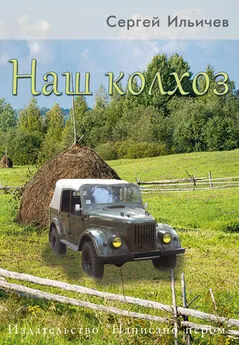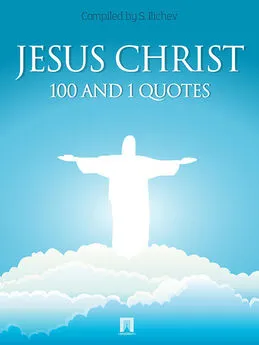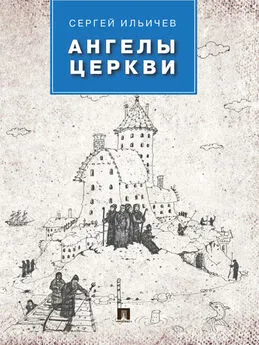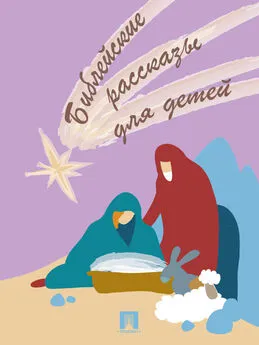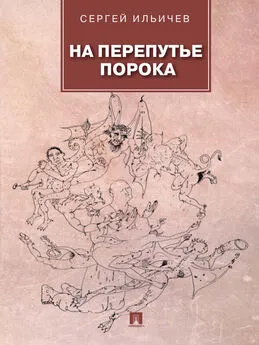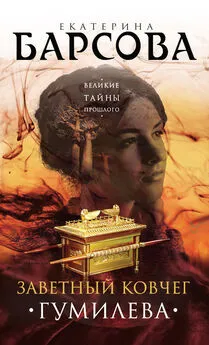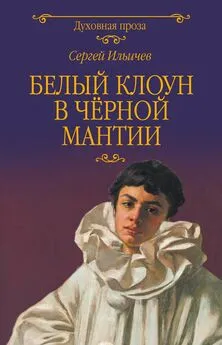Сергей Ильичев - Заветный Ковчег
- Название:Заветный Ковчег
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2014
- ISBN:9785392159321
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ильичев - Заветный Ковчег краткое содержание
Заветный Ковчег - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Поймите же, что сие странно только для непосвященного человека, поведение царя на самом же деле было глубоко русским, обращалось к издавна сложившимся отношениям царя и власти. И народ сделал свой выбор. Осознанно и недвусмысленно он выразил свободное согласие «сослужить» с царем в деле Божием – для создания Руси как «Дома Пресвятой Богородицы», как хранительницы и защитницы спасительных истин Церкви. Лишь после этого царь приступил к обустройству страны.
– И начал с учреждения опричнины, – вставил свое слово Сперанский.
Аракчеев вздохнул, но разговор прерывать не стал, а ответил так.
– Слово «опричнина», да будет вам известно, было в употреблении еще задолго до Иоанна Грозного. Так назывался остаток поместья, достаточный для пропитания вдовы и сирот павшего в бою или умершего на службе воина…
И далее. Поместье, жаловавшееся великим князем за службу, отходило в казну, опричь (т. е. кроме) этого небольшого участка. Таким образом, Иоанн Грозный называл опричниной целые города, земли и даже улицы в Москве, которые должны были быть изъяты из привычной схемы административного управления и перейти под личное и безусловное управление царя, тем самым обеспечивая материально опричников – корпус царских единомышленников, его сослуживцев в деле государственного устройства.
– Соглашусь, пожалуй, с вами и в этом, – ответил на то Сперанский и уже задавал новый вопрос: – Но вот тема более щепетильная и связанная с митрополитом Филиппом, принявшим кафедру в 1566 году.
– И здесь есть ясный ответ. Кому как не вам, человеку, блестяще закончившему семинарию, не знать, что сама жизнь царя Иоанна началась при непосредственном участии святого мужа – митрополита Иоасафа, который, будучи еще игуменом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, окрестил будущего государя российского прямо у раки преподобного Сергия Радонежского, как бы пророчески знаменуя преемственность дела Иоанна IV по отношению к трудам великого святого.
– Согласен, – молвил в ответ Сперанский.
– Другой митрополит – Макарий – окормлял молодого царя в дни его юности и первой ратной славы, – продолжил Аракчеев. – Кстати сказать, сей митрополит был величайшим книжником, а потому своим блестящим образованием Грозный во многом был обязан именно ему. Мудрый старец никогда не навязывал царю своих взглядов – окормляя его лишь духовно, он не стремился ни к почету, ни к власти, а потому сумел сохранить близость с государем, несмотря на все политические интриги, которые вокруг бушевали.
Тут граф Аракчеев взял еще одну книгу и, раскрыв, прочитал вслух: «О Боже, как бы счастлива была русская земля, если бы владыки были таковы, как преосвященнейший Макарий да ты…» – писал Иоанн в 1556 году Казанскому архиепископу Гурию.
– Положим, что все было действительно именно так. Но ответьте тогда на последний вопрос, который касается истории взаимоотношений царя с митрополитом Филиппом.
Аракчеев отложил книгу на стол и снова сел напротив Сперанского.
– Вы должны ведать, что царь сам выбрал Филиппа, бывшего тогда лишь соловецким игуменом. Знал сего подвижника с детства, когда еще малолетним царевичем играл с Федором – сыном боярина Степана Колычева и будущим митрополитом.
– Федором? – переспросил, уточняя, графа Сперанский.
– С Федором Колычевым… В годы боярских усобиц род Колычевых серьезно пострадал за преданность князю Андрею – дяде царя Иоанна. Эта же участь могла постигнуть и молодого боярина из рода Колычевых, друга детства царя Иоанна – Федора. Вот тогда-то он и выбрал иноческий путь служения Богу. Тайно, в одежде простолюдина, скрывая свое родовое имя и фамилию, он бежал из Москвы в Соловецкий монастырь, где и принял постриг с именем Филиппа, после чего и прошел путь от инока до настоятеля сего монастыря, а уже после, по настоятельной просьбе Иоанна, принял и патриарший посох.
– Теперь кое-что проясняется, – откликнулся Сперанский и хотел было развить свою мысль…
– Не спешите делать выводы, – мягко прервал его Аракчеев. – Повторяю, царь сам настаивал, чтобы быть Филиппу митрополитом, а тот отговаривался немощью своей и недостоинством. Говорил в ответ царю: «Не могу принять на себя дело, превышающее силы мои. Зачем малой ладье поручать тяжесть великую?»
Но царь тогда настоял. И Филипп стал митрополитом. 25 июля 1566 года после литургии в Успенском соборе царь вручил новопоставленному митрополиту пастырский посох его святого предтечи – святителя Петра, а в ответ выслушал с умилением глубоко прочувствованное слово Филиппа об обязанностях уже царского служения.
«Вот тогда-то народ русский, очевидно, вновь вспомнил о благодатной симфонии двух властей», – подумал художник Иванов, что незримо присутствовал при этом разговоре и постоянно открывал для себя нового, еще неведомого ему Иоанна Грозного. Но единодушие государя и первосвятителя, как он понимал, было просто невыносимо тем, кто в своем высоком положении видел не основание для усиленного служения царю и Руси, а оправдание тщеславным и сребролюбивым начинаниям…
– И что же произошло после этих событий? – спросил тут Сперанский графа Аракчеева. – И если можно, то чуть подробнее.
– Извольте выслушать, что было далее, – и Аракчеев продолжил свой рассказ:
– В июне 1567 года были перехвачены письма польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича к главнейшим боярам с предложением бежать в Литву. Естественно, что начался розыск, за ним, как это ни грустно, последовали и казни. Митрополит ходатайствовал о смягчении участи виновников, но политику царя поддерживал. Более того, даже обличал пастырей, невольно оказавшихся втянутыми в политические споры: «На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы молчать, страшась вымолвить слово истины? Никакой сан мира сего не избавит вас… пещись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии православного христианства…»
Однако тактика интриг противников царя была проста: лгать царю на митрополита, а святителю – на царя. При этом главным было не допустить, чтобы недоразумение разрешилось при их личной встрече. А потому через какое – то время семена той лжи начали давать свои всходы. И царь, до сего момента отказывавшийся верить, что Филипп вопреки своему обещанию стремится вмешиваться в государевы дела, попросил предоставить ему доказательства, которых, как вы понимаете, не было.
После чего злоумышленники в срочном порядке отправились на Соловки, где угрозами, где ласками, а где деньгами принудили к лжесвидетельству ученика святого митрополита – игумена Паисия, пообещав тому епископскую кафедру.
Состоялся суд. Противники Иоанна, зная по опыту, что убедить царя в политической неблагонадежности Филиппа им не удастся, готовили свои обвинения на основе того, что касалось жизни святителя на Соловках еще в бытность его тамошним настоятелем, а это уже, как вы понимаете, было неподвластно Иоанну. А посему царь вынужден был подчиниться соборному церковному мнению о виновности митрополита.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: