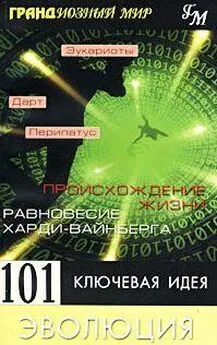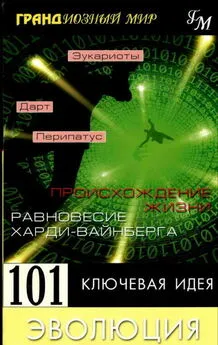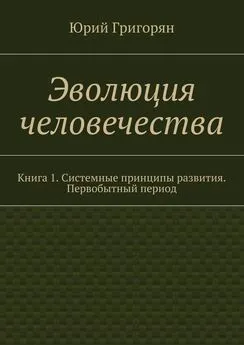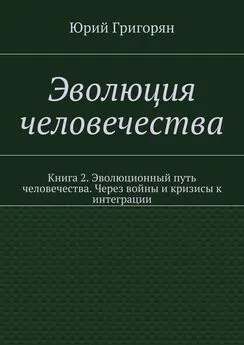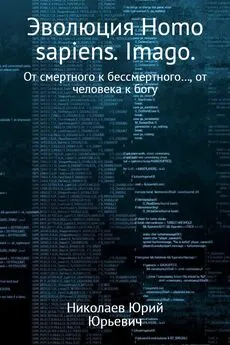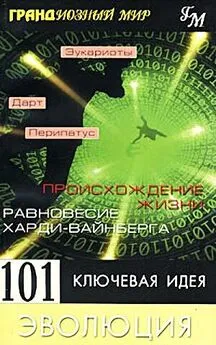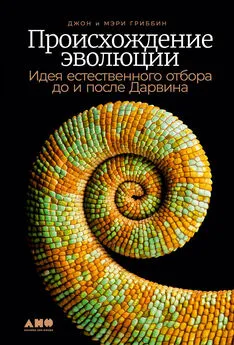Юрий Чайковский - Эволюция как идея
- Название:Эволюция как идея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество научных изданий КМК
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9500591-3-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Чайковский - Эволюция как идея краткое содержание
Автор предлагает развить эволюционную заявку А. А. Любищева (1890–1972), полагая, что она может дать решение вековых проблем эволюционизма. По мысли автора, это необходимо как для практики выхода из нынешнего общего кризиса (экологического, экономического, политического и социокультурного), так и для построения картины мира, соответствующей нынешним знаниям.
Эволюция как идея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, увы, долго поступал и Дарвин, и так у дарвинистов с тех пор принято. Никто из них не знает, что писал Дарвин, что в последние 10 лет жизни, осознав тупик дарвинизма, всё более агрессивного, он, как сам писал, «забросил все теории»; при этом достигнув больших успехов в ботанике и рождавшейся экологии. Досадно у автора, использующего нечитанного Дарвина лишь как символ, читать про «книгу известного антидарвиниста Ю. В. Чайковского (2008)» [Савинов, 2012, с. 36]. Ее он, видимо, не читал тоже — ведь как раз там рассказано, как Дарвин пришел к своему учению и сколько учений (о коих А. Б. Савинов не слыхивал) из этого выросло. А в статье «Диатропика» (LR, т. 14, с. 97) он может прочесть и про блестящее достижение Дарвина, никем из дарвинистов ни разу не упомянутое. Так что неясно, кто тут антидарвинист.
Казалось бы, какая нам разница, что пишут те, кто не отличает попытку понять, как устроен мир, от доказательства своей правоты? К сожалению, они все и всегда примыкают к большинству и преподают своё неумение и нежелание различать ученикам. Тот же Савинов с упоением новичка то и дело подает как синонимы идеальное и непознаваемое, материалистическое и научное и т. п.
Ниже мы увидим, что как раз материализм уже сто лет как отказывается не то что познавать, но даже упоминать основной блок фактов, нужных для построения теории эволюции, тогда как идеализм их изучает. Здесь же замечу только, что идеальное приходится признавать и изучать всем, включая даже самых вульгарных материалистов. Таково, например, творчество — чисто идеальная процедура, познаваемая через ее материальные итоги — изделия, сочинения и пр. Такова и эволюция (биологическая и не только), познаваемая через ее материальные итоги, в которых, однако, неизменно видны акты переноса идей.
Увы, замалчивание неприятного обычно не только у дарвинистов и не только в биологии. К примеру, так и не удалось мне найти содержательную критику основ теории множеств Георга Кантора. Хотя историки математики изредка пишут, что его критиковали (а то и отвергали) крупнейшие его современники, но ссылок у историков нет, а становиться самому историком теории множеств мне было уже поздновато, да и не по силам (см. 4–16, с. 21, 37, 76). Не ищут и другие, начиная критику с нуля — тоже, как с дарвинизмом.
Как же еретические знания об эволюции последние сто лет добывались, обсуждались и сохранялись в условиях замалчивания? Насколько знаю, на Западе — никак, а вот у нас было эволюционное братство, и связано оно с именем Александра Александровича Любищева (1890–1972). Он широко известен как въедливый критик дарвинизма и особенно СТЭ (о чем см. 4–84), хотя, по-моему, велик он не этим.
Основатель
Пишут о нем восторженно [30] «Любищев относится к числу высочайших умов, когда-либо существовавших. Его биографы, имевшие счастье общаться с ним, с полным правом говорят о феномене Любищева как о явлении исторической значимости. Историк будущего, исследователь культуры России, обратившись к творчеству Любищева, найдет ответ на многие недоуменные вопросы и сможет сделать оптимистический прогноз относительно будущего» — писала генетик Раиса Львовна Берг [2002, с. 3], дочь Л. С. Берга, весьма далекая от эволюционных взглядов обоих.
, и в этом есть своя правда, но пишут еще и лишнее, что мешает понять его личность — например, о его колоссальной эрудиции и энциклопедизме. Любищев имел приличное образование, цепкую память и хорошо подобранную домашнюю библиотеку, временами следил за несколькими журналами, отлично знал свою область биологии, но вот, пожалуй, и всё.
Он часто цитировал худшее (2-е) издание Большой Советской энциклопедии, а не иные энциклопедии, более полезные. Мейен говорил мне полушутя, что львиная доля эрудиции Любищева в истории биологии покоилась на двухтомнике Эмануэля Радля [Radi, 1905, 1909], у Любищева имевшемся. Несмотря на устойчивый интерес к теме вавиловских рядов, он не знал, видимо, интересных наблюдений животновода С. Н. Боголюбского (показавшего [31] Две его статьи (1928, 1940 гг.) помещены были в самых заметных изданиях и содержат ключевые термины в заглавиях [Боголюбский, 1959].
на параллелях окраски, включая неродственные виды, возможности прогноза в духе Вавилова). Сам Любищев, кстати, в письме к С. В. Мейену выразился на сей счет яснее всех:
«Статьи В.Я Александрова „Проблема поведения“ не читал. Напишу ему об оттиске, а то возьму в библиотеке… Я читаю очень мало, но все ценное прорабатываю тщательно и с огромной затратой времени, т. е. очень прочно, поэтому за большую жизнь я и накопил столько, что кажусь чрезвычайным эрудитом» (ЛЧ-2004, с. 32).
Он тогда в библиотеке не работал (старик на костылях, понятно), но и взять на дом — крайний для него случай, лучше подождать недели две-три (в его-то возрасте), чем просить аспиранта или жену сходить туда. А ведь он тогда и сам разъезжал по городам. Намеренный поиск литературы виден у него лишь в узкоспециальных статьях.
Первые же занятия историей науки убедили меня, что Любищев даже Ч. Дарвина и Ламарка знал плохо (ссылок нет, лишь оценочные фразы), Э. Дарвина и более ранних трансформистов еще хуже. Это сильно мешало ему в исторических оценках [32] Характерно, как Любищев поучал И. И. Пузанова, автора хорошей популярной книжки о Ламарке [Пузанов, 1959], кстати, ему не известной. Любищев [2009, с. 264] напомнил про роль монастырей, про Высокое средневековье и пап-меценатов. Однако «забыл» инквизицию и прочее и заключил: «Такого вмешательства в науку, как сейчас мы имеем у нас, в истории человечества вообще не было». Словно не была в дни Галилея разгромлена (на века!) наука Италии.
. В гражданской истории (при всем моем уважении к его «Апологии Марфы Борецкой») Любищев не был даже толковым дилетантом [33] Не зная, например, ничего о деяниях Петра I, назвал в рукописи 1953 г. его, обратившего крепостное право в рабство, пресекшего всякую инициативу и убившего местное самоуправление, «революционером на троне», чем исказил себе всю ретроспективу России. Точнее см. 4–10 (статья «Горизонт познания»). К чести Любищева: позже он, видимо, узнав больше, данной темы не касался.
.
Велик Любищев явно не как историк, а как «связавший несвязанное» (4–08, с. 201). Для нас, не знавших Любищева прежде, он возник из небытия в 1962 году, когда в печати появилась его статья «Понятие сравнительной анатомии» [34] Биометрики узнали его раньше, в 1958 г., по его докладу на конференции в Ленинградском университете. О его крамольных взглядах там речи не шло. Еще раньше, с августа 1953 г., Любищев рассылал антилысенковские письма как в органы власти и печати, так и друзьям. Мне о них ничего известно не было.
, а затем и другие. Старшие, знавшие его, указывали нам его работы, его стали приглашать на семинары, сперва в Ленинграде, а затем в Москве, Новосибирске и других городах. Быстро сложился круг новых приверженцев, и мало кто из нас знал, что мы — второй круг, а первый, почти сплошь из его корреспондентов, бытовал еще с НЭПа, пережил большой террор, теплился письмами в годы войны, а сразу после нее оживился поразительно.
Интервал:
Закладка: