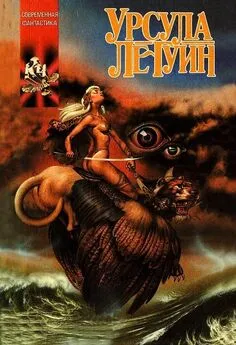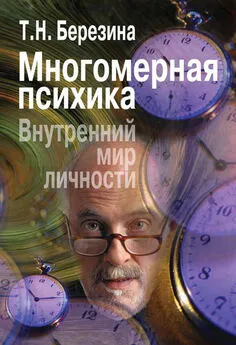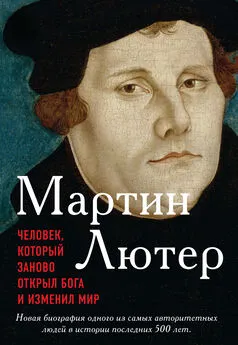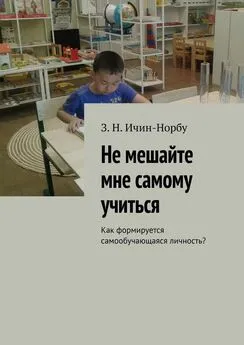Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Название:От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-389-16295-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] краткое содержание
«Чем глубже я погружался в историю литературы, тем сильнее меня охватывало волнение. Казалось странным, сидя за письменным столом, рассуждать о том, как литература сама по себе формировала историю человечества и историю планеты. Мне было необходимо посетить те места, где рождались великие тексты и изобретения. В этих путешествиях было невозможно сделать хотя бы шаг, не обнаружив той или иной формы записанного вымысла. Я попытался свести свои впечатления в повествование о литературе и о том, как она превратила нашу планету в литературный мир». (Мартин Пачнер)
От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О публикации «Реквиема» теперь не могло быть и речи. Но этим кампания против поэтессы не ограничилась. Объявленная врагом государства, Ахматова оказалась под наблюдением; ее исключили из Союза писателей. В стране, где все зависело от принадлежности к той или иной организации, это означало, что она больше не работает поэтом – и, следовательно, не будет теперь получать карточки на продукты питания. Это была существенная потеря в условиях строго нормированной послевоенной российской экономики. Вскоре ее сына снова арестовали, и на сей раз она не смогла вымолить у Сталина прощение для него. Льва Гумилева приговорили к десяти годам в исправительно-трудовом лагере; он стал заложником, чтобы Ахматовой никогда больше не захотелось встречаться с иностранными шпионами.
Три встречи с Берлином дорого обошлись Ахматовой, но она никогда не жалела о них – разве что о том, что не позволила Берлину доверить «Реквием» бумаге. В стихах, написанных позже, Ахматова намекала на эти встречи, она писала о госте из будущего – «он не станет мне милым мужем», имея в виду Берлина. Она даже утверждала, что эти встречи и реакция Сталина на них стали причиной холодной войны. Возможно, Ахматова переоценивала свою значимость, но она знала, что, будучи известным поэтом, раздражает самого могущественного лидера СССР, как заноза. Не исключено, что ее встречи с Берлином действительно оказались одной из второстепенных причин холодной войны, но при иных обстоятельствах «Реквием» так и существовал бы лишь в памяти своей создательницы и ее подруг.
Через семнадцать лет, в 1962 г., Ахматова прочитала на память «Реквием» еще одному посетителю [635] Scammell M. Solzhenitsyn: A Biography. N. Y.: Norton, 1984. P. 447.
. На сей раз не иностранцу – она усвоила суровый урок 1945 г., – а намного более молодому, чем она, соотечественнику, который поставил себе целью измерить ограничения, наложенные на литературу, издающуюся в Советском Союзе. Сталин уже несколько лет как умер, и самые страшные чистки закончились. Хрущев, взявший верх в борьбе за власть, принимал меры для того, чтобы дистанцироваться от самых одиозных деяний Сталина. Этому периоду дали название «оттепель»; в сложившейся обстановке один из влиятельных литературных деятелей решился отправить Хрущеву письмо, где защищал Ахматову и просил главу государства реабилитировать ее после стольких лет вынужденного замалчивания. Главе государства в очередной раз пришлось решать, как поступить с «русской Сапфо». Хрущев согласился, что Ахматова больше не представляет опасности и можно даже предоставить ей какое-то незначительное место в советской литературной вселенной [636] Dalos , Gast aus der Zukunft. P. 158–160.
. Впервые за несколько десятков лет Ахматова могла писать стихи с надеждой на их публикацию.
Однако даже при этих новых обстоятельствах попытка издания «Реквиема» была бы сопряжена с большим риском, и поэтому Ахматова читала ее младшему коллеге-писателю по памяти. Гость, Александр Солженицын, не знал «Реквиема», но читал некоторые другие ее стихи, распространявшиеся через неофициальную систему, именовавшуюся «самиздат» [637] Ibid. P. 440.
. Если при Сталине безопаснее всего было сохранять запрещенные стихи, заучивая их наизусть, то после его смерти возник способ их подпольного распространения. Для тиражирования использовали не печатные станки, которые было трудно приобрести в тоталитарном государстве (самиздат осуществлялся в догутенберговскую, по выражению Ахматовой, эпоху), а другие механические орудия, появившиеся лишь сто лет назад, относительно дешевые и не столь легко поддающиеся государственному контролю: пишущие машинки. При помощи «копирки» и достаточно тонкой бумаги можно было за один раз напечатать до десяти копий; затем их раздавали читателям, каждый из которых мог, в свою очередь, также тайно продублировать текст и снабдить им еще нескольких человек.
Самиздат начался после смерти Сталина с распространения стихотворений Ахматовой и некоторых других поэтов [638] Alexeyeva L. Soviet Dissent. Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985). P. 13.
. Стихи были короткими и являли собой самую сжатую форму, способную передать беспомощность и ужас, пронизывавшие все уголки советской жизни. Поначалу эти перепечатанные без указания имен авторов стихи циркулировали среди узких дружеских кружков, вряд ли сильно превышавших численностью тот, в котором Ахматова вполголоса читала свою поэму. Но в ходе «оттепели» после смерти Сталина самиздат активизировался. Копии расходились все шире, все больше людей дерзало читать их. Часто произведение попадало к человеку лишь однажды – и он за ночь жадно читал его в одиночку или в компании друзей, а затем передавал следующей группе. Процесс был примитивным, трудоемким и весьма ограниченным в числе участников, но это было лишь началом. Вскоре жанровый охват самиздата расширился от поэзии до очерков, политических писем и даже романов, особенно поступавших из-за границы [639] Ibid. P. 15.
. Все это печаталось на дешевой бумаге, не переплеталось и даже не скреплялось, изобиловало опечатками; часто объемные произведения произвольно делились на части, чтобы их могли читать одновременно несколько человек. По мере активизации самиздата качество копирования повышалось, в работу включались профессиональные машинистки, помогавшие литературному подполью и увеличивавшие свои доходы.
Растущее движение самиздата не оставалось без внимания Советского государства, но пресечь его было не так-то просто – разве что отвести стрелки часов назад, в эпоху ужасного сталинского террора. Случались обыски в квартирах, и даже за простое обладание самиздатом следовала быстрая кара по статьям 190–1 – «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» или 162 – «Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности» [640] Ibid. P. 379.
. Но сколько ни арестовывали читателей и распространителей самиздата, это движение нельзя было остановить, потому что только в нем существовала литература, которую хотели читать. Существовал даже анекдот, в котором бабушка, безуспешно пытавшаяся уговорить внучку прочитать «Войну и мир» Толстого, отчаявшись, перепечатала огромный роман на пишущей машинке, чтобы он походил на самиздат [641] Komaromi , Material Existence of Soviet Samizdat. P. 609.
.
К тому времени, когда Ахматова прочитала «Реквием» Солженицыну, таким образом циркулировали сочинения примерно трехсот авторов [642] Alexeyeva , Soviet Dissent. P. 13–15.
. Солженицын был одним из них [643] Scammell , Solzhenitsyn: A Biography. P. 440.
: Ахматова прочитала самиздатовскую версию его повести «Один день Ивана Денисовича». Если в «Реквиеме» описывалось ожидание без надежды за пределами тюрьмы, то Солженицын привел читателя в сердце ГУЛАГа, системы лагерей для заключенных, известной по аббревиатуре своего официального названия. Повесть была до озноба сухой. Солженицын в подробностях рассказывал о том, как проходит день типичного заключенного, начиная с побудки и свары из-за дополнительного пайка [644] Solzhenitsyn A. One Day in the Life of Ivan Denisovich, trans. from the Russian by H. T. Willetts, with an introduction by John Bayley. N. Y.: Everyman, 1995 ( Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. М.: АСТ, 2015).
. После этого следовало описание работы, проходившей в окружении охранников под открытым небом, при температуре ниже нуля, в не подходящей для такой погоды одежде. Солженицын понимал, что жестокость жизни в ГУЛАГе не передать никаким нагнетанием ужасов. Лучшим средством было сухое протокольное описание, позволяющее читателям домысливать ужасы самостоятельно. Таким же стилем пользовались и другие авторы, например Примо Леви, пытаясь передать еще более страшные условия нацистских лагерей труда и смерти.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]](/books/1069702/martin-pachner-ot-litery-do-literatury-kak-pismen.webp)