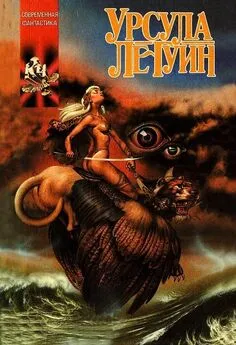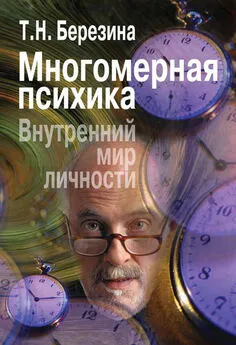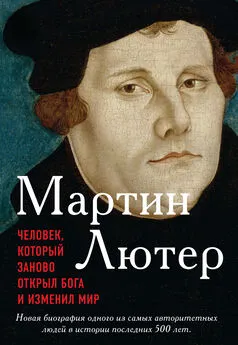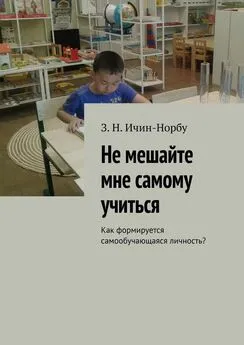Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Название:От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-389-16295-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] краткое содержание
«Чем глубже я погружался в историю литературы, тем сильнее меня охватывало волнение. Казалось странным, сидя за письменным столом, рассуждать о том, как литература сама по себе формировала историю человечества и историю планеты. Мне было необходимо посетить те места, где рождались великие тексты и изобретения. В этих путешествиях было невозможно сделать хотя бы шаг, не обнаружив той или иной формы записанного вымысла. Я попытался свести свои впечатления в повествование о литературе и о том, как она превратила нашу планету в литературный мир». (Мартин Пачнер)
От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мой любимый вариант «Сундиаты» был представлен сказителем и облечен в письменную форму в 1994 г. [657] Изложение событий сделано по личным запискам Д. Конрада, которые он любезно предоставил мне, а также телефонным консультациям с ним. См. также: Sunjata : A New Prose Version, ed. and trans. with an introduction by David C. Conrad. Indianapolis and Cambridge. Mass.: Hackett, 2016. Весь анализ «Сундиаты» (за исключением особо указанных моментов), основан на этой версии.
. Представление состоялось в деревне Фадама на берегу реки Ниандан, протекающей в Гвинее (Западная Африка). Деревня насчитывала всего около сотни жителей, большинство из которых жили в маленьких круглых хижинах из кирпича-сырца, с конусообразными соломенными крышами. Владения одной семьи зависели от ее численности и могли содержать до полудюжины таких жилых хижин, закрытую навесом кухню без стен и один-два амбара для зерна.
Сказитель по имени Джанка Тассей Конде был обучен в традиционной манере отцом и братом. Его отец, знаменитый Бабу Конде, долго возглавлял семейный клан и стал jeli nagara – предводителем бардов – в этой местности. Тассей унаследовал его положение.
Тассей Конде давал представление в своей собственной хижине, куда набилось больше дюжины человек, сидевших спиной к стенам на циновках и козьих шкурах. На протяжении продолжительного выступления мужчины – члены семьи и соседи – входили и выходили, когда случались паузы (младшие всегда уступали дорогу старшим), а женщины смотрели снаружи из-за двери. Конде, одетый в традиционную пеструю рубаху-балахон поверх мешковатых штанов, приветствовал собравшихся и приступил к рассказу.
Поскольку время было ограничено, сказителю пришлось тщательно выстроить свою программу, решить, каким сюжетным линиям уделить особое внимание, а какие оставить для других выступлений. За четыре дня представления, распределенных на несколько недель, ему следовало создать такую версию «Сундиаты», которая соответствовала бы традиции, но при этом была бы его собственной.
Участие слушателей поощрялось. Два-три барда из других кланов поочередно провозглашали после каждой фразы положенный отклик – naamu («мы тебя слышим!») или tinye («истина»), выражая тем самым оценку слушателями и истории, и мастерства исполнителя.
На представлении присутствовал один необычный зритель – собиратель-переписчик, которому предстояло записать эту историю. Им был американский ученый Дэвид Конрад.
Чтобы попасть в эту отдаленную деревню, Конраду пришлось преодолеть немало трудностей. Он ехал на джипе, пробираясь сквозь неисчислимые стада рогатого скота, затем переправился через реку в долбленой лодке и, наконец, последний отрезок пути к деревне прошел пешком. Конрад точно знал, чего хотел: превратить «Сундиату» в явление литературы. Это было и основной целью выступления Конде – не просто живой пересказ истории для местных жителей, а изложение, которое будет зафиксировано в книге Дэвида Конрада.
Конрад, записывая версию Конде, не пользовался авторучкой – по крайней мере, на первом этапе. Он использовал магнитофоны – Sony TCS-430, свободно помещавшийся на ладони, и Marantz PMD-430, несколько большего размера. Сказители познакомились с магнитофонами еще в 1970-е гг. и привыкли к ним. Эти аппараты позволяли делать запись преданий в исконном виде, не придавая им формы классических литературных жанров, таких как пьеса, роман или даже детская сказка. В Западную Африку магнитофоны почти массово поступали из Нигерии, и их начали использовать для записи фольклора без претензий на литературность [658] Tradition, and Imagination in Contemporary Bamana Segu. Dissertation. University of Wisconsin-Madison. Ann Arbor: UMI, 1997. P. 15.
. Кассеты, при распространении которых обычно не соблюдались никакие авторские права, продавались с рыночных прилавков по всему региону, часто даже без коробок и подписей. Таким образом неграмотные могли приобщиться к преданиям [659] Conrad D. C. ed., Epic Ancestors of the Sunjata Era: Oral Tradition from the Maninka of Guinea. Madison: University of Wisconsin-Madison, African Studies Program, 1999. P. 3.
.
Подобно другим новым технологиям, кассеты своим появлением изменили культуру устного сказительства. Они позволяли сказителям доносить тексты до слушателей через большие расстояния, радикально расширяя диапазон их влияния (сходный эффект в этом отношении имела письменность). Если раньше барды имели дело с локальной стабильной аудиторией, то теперь они начали конкурировать друг с другом на обширных территориях. Одним из результатов стало стремление бардов все чаще и решительнее преломлять материал через собственную индивидуальность, создавать собственные, необычные интерпретации, чтобы отличаться от конкурентов [660] Ibid. P. 8.
. Нечто подобное делал и Конде.
Кассеты – а также радио и телевидение – изменили социальное положение сказителей. Испокон веку их существование обеспечивали могущественные покровители, но эта система рухнула с прибытием французских колонизаторов. Экономическое и социальное бытование сказителей вновь изменилось, когда Мали и соседние страны после Второй мировой войны получили независимость [661] Ibid. P. 2; Newton R. C. Out of Print: The Epic Cassette as Intervention, Reinvention, and Commodity // In Search of Sunjata: The Mande Oral Epic as History, Literature, and Performance, ed. by Ralph A. Austen. Bloomington: Indiana University Press, 1999. P. 313–318.
: бардам опять пришлось искать покровителей в кругах новой политической и экономической элиты. В такой обстановке магнитофонная пленка, наряду с радио и телевидением, явила собой новый источник дохода вдобавок к выступлениям во время обрядов наречения имени и на свадьбах.
Финансовым стимулом для той работы, которую Конде выполнил в 1994 г., была не оплата радиотрансляции, не доход от продажи кассет, а гонорар за выход на всемирный литературный рынок. Конрад платил Конде за каждое выступление от двадцати пяти до пятидесяти тысяч гвинейских франков (тогда это соответствовало двадцати пяти – пятидесяти долларам США), существенную, по тем временам и для той страны, сумму. Затем записи кропотливо переносились на бумагу на языке мандинка, на котором говорил Конде (используя французский алфавит), после чего переводились на английский язык. Полученный в результате текст Конрад отредактировал, сократив примерно на две трети; вышла версия, соответствующая литературным канонам, но сохранившая тем не менее в себе интонации, присущие устной традиции, включая отклики слушателей. Впоследствии Конрад опубликовал замечательное прозаическое переложение эпоса, а также записал текст стихотворными строками наподобие эпопеи Гомера. Устное повествование преобразовалось в литературный текст.
Магнитофон Дэвида Конрада и письменная расшифровка звукозаписи были не первой встречей «Сундиаты» с письменностью. Эпопея в устной форме сосуществовала с различными письменными культурами на протяжении многих столетий, и эти культуры оказывали влияние на существовавшее предание. Барды, предшественники Конде, не то чтобы отрицали письменность: они включили записанные истории – и само письмо – в свои повествования. Это оказалось вторым процессом, с которым «Эпос о Сундиате» позволил нам детально ознакомиться, – сосуществованием устного сказительства с письменными культурами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]](/books/1069702/martin-pachner-ot-litery-do-literatury-kak-pismen.webp)