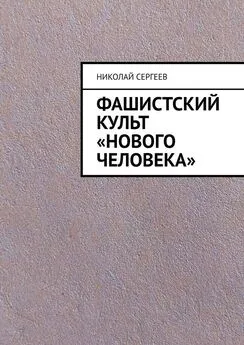Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Творчество Неизвестного в целом получило положительные отзывы, а вот отмеченные брутальным реализмом работы Дмитрия Шаховского, представленные на Четвертой выставке произведений молодых художников в Москве в 1958 году, были разгромлены критиками. Созданное Шаховским скульптурное изображение безногого мужчины, сидящего на тележке и держащегося за рычаги, с помощью которых он передвигается по улице, вызвало порицания за мрачный сюжет, в котором, согласно мнению критиков, не было ничего поучительного или вдохновляющего[261]. Молодежные выставки наподобие той, где была показана работа Шаховского, были новым явлением, появившимся в период оттепели. Как указывала Сьюзен Рейд, они представляли собой «авангард официальной художественной системы»: хотя в 1963 году такие мероприятия были (пусть и временно) отменены консервативными силами, реформаторы приветствовали их как благоприятную возможность для новшеств и активизации своих усилий [262]. Учитывая это, столь острая критика в адрес Шаховского, вероятно, оказывается еще более важным обстоятельством, однако, как утверждает Рейд, «даже убежденные реформаторы ставили знак равенства между „аутентичностью“ и „современностью“, с одной стороны, и принципиальным оптимизмом, с другой, какое бы „суровое“ выражение последний ни получал» [263]. В представленном молодым скульптором изображении инвалидности оптимизм отсутствовал как таковой.
В части реалистичности и психологических достоинств подход к изображению инвалидности у Неизвестного и Шаховского был ближе к тому, как эти проблематичные темы воплощались в кино того времени. Хотя специфика кинематографа периода оттепели не является ключевым предметом нашей работы и ей посвящено множество других исследований [264], разрыв между изобразительным искусством и кино в способах изображения тем инвалидности и психологического страдания (тот же самый разрыв, что существовал в первые послевоенные годы между изобразительным искусством и художественной литературой) вновь подчеркивает усложнившуюся и зачастую противоречивую природу как советского культурного процесса в целом, так и способов изображения наследия войны в частности. Это расхождение исключительно наглядно продемонстрирует самый общий взгляд на два известнейших фильма эпохи оттепели: «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и «Баллада о солдате» Григория Чухрая (1959). В этих лентах раненый солдат изображен как сложная личность, пытающаяся преодолеть разнообразные психологические проблемы и смиряющаяся с ранением, которое куда более серьезно, чем перевязанные конечности и окровавленные головы, привычные для изобразительного искусства периода оттепели. В «Журавлях» Калатозова раненый солдат наделяется несколькими функциями в развитии сюжета. Из-за него погибает Борис, главный герой фильма, которого убивает снайпер во время вылазки в разведку, когда тот пытается спасти своего раненого товарища; он же рассказывает эту историю Веронике, возлюбленной Бориса, самоотверженно работающей в госпитале в Сибири, где она вместе с его отцом ухаживает за раненными под Сталинградом. Однако, в отличие от того, что обнаруживается в других типах визуальной культуры, изображение раненого солдата в этом фильме представляет собой нечто гораздо большее, чем простой повествовательный прием. В образах своих персонажей — от Воробьева, который, несмотря на свои ранения, пытается сохранить мужскую гордость, отказываясь просить судно, до Захарова, чья физическая боль оказывается чем-то незначительным, когда он узнает, что его возлюбленная вышла замуж за другого, и множества раненых, которых встречают их семьи в заключительной сцене возвращения домой, — Калатозов вновь и вновь изображает ранение и его последствия для тела и души мужчины как сложный феномен, одновременно лишающий мужского достоинства и героический, угрожающий жизни и жизнеутверждающий, признак храбрости и источник сомнений в себе.
Столь же сложное изображение ранения можно обнаружить в «Балладе о солдате». Главный герой этого фильма Алеша Скворцов, стремясь побывать дома в течение недельного отпуска, предоставленного ему за совершенный подвиг, встречает на платформе железнодорожной станции безногого Васю, который тоже пытается добраться домой к своей жене. Мучимый сомнениями в возможности счастливого воссоединения с семьей и исполненный ненавистью к самому себе, Вася изображен человеком, который разрывается между желанием вернуться домой, страхом быть отвергнутым и мыслями о счастье своей жены, которое, уверен он, может наступить только в том случае, если он никогда не вернется. Вася пытается отправить своей жене телеграмму с объяснением своего решения не возвращаться, но тут же решает сесть на поезд после того, как получает выговор от телеграфистки, обвиняющей его в трусливом стремлении бросить жену, которая так долго его ждала. Однако решение вернуться домой не облегчает его душу — эту пытку визуально символизирует долгий план, в котором Васины костыли превращаются в решетки, подчеркивающие изоляцию, которую ощущает этот солдат, оказавшийся на обочине «нормального» общества, где, как он уверен, счастье и привычная семейная жизнь отныне недостижимы. Васина душа получает незначительное облегчение лишь в тот момент, когда еще один незнакомец — на сей раз пожилой мужчина в вагоне — напоминает ему, что он должен быть благодарен за то, что остался жив и возвращается домой, вопреки всему, через что ему пришлось пройти. В тот момент, когда Вася ожидает, что его худшие опасения сбудутся, появляется его жена и страстно встречает его, восклицая: «Ты вернулся!
Ты жив!» — и явно не обращая внимания на его увечье. Тут же она беспокоится о своем внешнем виде, объясняя, почему у нее слегка поранен палец, — тонкий намек на привычные дела домашней жизни, к которой Вася наконец вернулся. Хотя сам этот момент показан исполненным счастья, трудности возвращения к обычной жизни прекрасно поданы в последней сцене с участием Васи и его жены. Когда они идут к ожидающей машине, которая отвезет их домой, женщина пытается поддерживать Васю под руку, что мешает ему управляться с костылями. Несмотря на сохранение любви, они уезжают со станции в состоянии неопределенности, без уверенности в том, чем теперь может обернуться его инвалидность для их совместной жизни.
Конечно, даже несмотря на значительные различия в способах репрезентации, было бы неверно рассматривать изобразительное искусство и кинематограф как полностью отделенные друг от друга культурные формы. Критик Безрукова, размышляя о «Влюбленных» Коржева в комментарии, сопровождавшем первую публикацию этой картины в «Искусстве», подчеркивала, что некоторые зрители проводили параллели между этой работой, тенденциями в послевоенном итальянском кинематографе и, что более близко советским реалиям, экранизацией Сергеем Бондарчуком «Судьбы человека». Позже сам Коржев будет признавать влияние кинематографа на свой живописный стиль и подачу своих героев — то, что Александр Сидоров характеризовал как «расширенный масштаб и драматическое кадрирование» [265]. Впрочем, Безрукова довольно пренебрежительно отнеслась к тем зрителям, которые проводили слишком тесные параллели между живописью Коржева и кинематографом. «Возможно, один вид искусства напоминает другой, — утверждала она, — но изобразительное искусство никогда не утратит своей специфики. Кино может многое рассказать за два часа — картина должна рассказать вам все сразу. Художник тоже может сказать [многое], но он способен сделать это лишь в той степени, в какой он не станет приносить в жертву артистизм и поэтичность» [266].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: