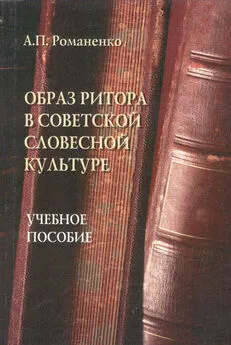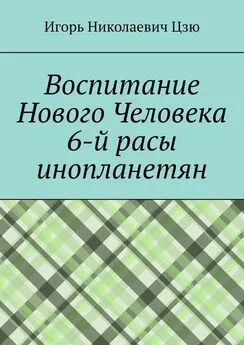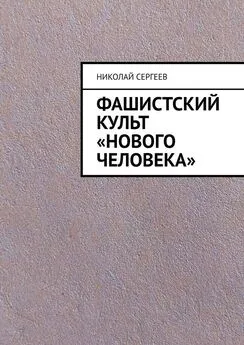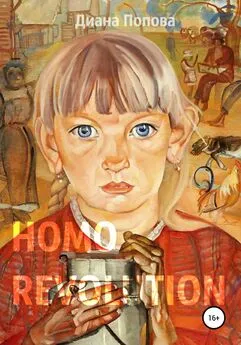Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Темы смерти, памяти и травмы в советском контексте вызывают споры. До самого недавнего времени мнение обычных граждан и даже позиция академических кругов свидетельствовали об особом российском обращении с подобными непростыми вещами, которое сложилось благодаря национальному характеру и стоической твердости народа [299]. Революция принесла много изменений в практики захоронения и оплакивания мертвых. Наиболее примечательным из них было появление кремации — способа, идущего вразрез с православными представлениями о том, что для попадания души на небеса тело должно разложиться естественным образом. Переполненные кладбища, новые светские места погребения, которым, по мнению многих людей, не хватало востребованных в то время почестей и торжественности, а также нарушение многих традиционных ритуалов оплакивания мертвых — все это представляло серьезные проблемы для тех, кто потерял своих близких в привычных обстоятельствах. Обращение с покойниками в кризисные моменты наподобие голода 1932–1933 годов часто рассматривалось местными властями как практическая проблема, которую требовалось решить быстро и эффективно, мало или совсем не принимая во внимание позицию их живых родственников [300].
Какие бы катастрофы ни обрушились на голову советского народа начиная с 1917 года, ни одна из них не была сопоставима с массовой смертностью во время войны. Проблемы, связанные с тем, какая память о войне сохранялась у людей и как отдельные индивиды, группы и общество в целом осмысляли пережитое, как минимум сложны. Едва ли можно поспорить с тем, что официальные ритуалы памяти о войне, представляя ее как преимущественно дело людей белой расы, русских и мужчин, оттеснили на задний план многие личные истории. Если же обратиться к убеждению в том, что в советский период война в подобных местах поминовения всегда изображалась в триумфальных тонах, то обоснованной выглядит необходимость в большей детализации. Кэтрин Мерридейл в своем исследовании памяти и смерти в советскую эпоху обнаружила, что даже полвека спустя воспоминания о травме и утрате в основном отсутствовали в рассказах отдельных людей о своем военном опыте, что позволило ей сделать выводы, будто горе представляет собой мотив, который «русские не желают видеть заложенным в своих мемориалах из бетона, бронзы и камня» [301]. Но именно этот мотив вновь и вновь обнаруживается в мемориалах, которые строились в советский период — в особенности в тех, что появились в 1960‐х годах. Более того, как можно заметить по фотографиям таких мест, публиковавшихся в журналах наподобие «Огонька», это было не только пространство, куда люди приходили оплакивать умерших, — сам этот процесс зачастую был одним из аспектов визуальной репрезентации подобных мемориалов.
В начале этой главы мы рассмотрим, как смерть изображалась в визуальной культуре военных лет, а затем перейдем к образам послевоенного времени. Мы выясним, какую роль смерть и утрата играли в первых мемориалах, главным образом в Центральной и Восточной Европе, а затем обсудим более частные гендерные аспекты таких эмоций, как горе, и то, как визуально отличался способ их подачи от обнаруживаемого в других культурных формах. В заключительной части главы мы рассмотрим то, каким образом изображались мемориалы на фотографиях в популярных изданиях и какую роль образ мертвого и оплакиваемого советского человека играл в официальном нарративе о военных годах. Тем самым будет показано, что тенденции, различимые в изображении мертвых и людей, утративших родственников, в целом совпадают с тенденциями, которые были выявлены применительно к другим работам на военную тематику; что в сталинский период эмоциональное воздействие войны не было полностью вычеркнуто, а в период оттепели не состоялось принципиальной переоценки последствий войны ни для павших, ни для выживших. Напротив, именно в тот период, который больше всего ассоциируется с пышностью и помпезностью в подаче военной темы, проблемы утраты и скорби стали неотъемлемыми для художественного видения наследия победы.
Образы смерти во время войны
Учитывая известные нам сведения о жестких ограничениях, которым в сталинский период подвергалась визуальная культура, вероятно, будет удивительным, насколько важное место в годы войны занимало изображение смерти и тягот. Если союзники СССР по антигитлеровской коалиции представляли своей читающей публике в целом выхолощенную версию событий Второй мировой войны, то в Советском Союзе на страницах и массовых, и специализированных военных изданий в шокирующих подробностях рассказывалось о зверствах немцев в отношении гражданского населения страны. Художники постоянно изображали ужасающие сцены — расстрельные команды, повешенных партизан и мертвых детей. Разумеется, контекст этих материалов был очень разным, но все это были тяготы и смерти, связанные с действиями безжалостных фашистских варваров вне зависимости от того, каким образом их могла провоцировать или усугублять внутренняя политика режима. Но несмотря на то что подобные изображения, несомненно, обладали огромной пропагандистской силой, война помещала человеческую трагедию в центр советского искусства.
Использование фотоснимков зверств в советской прессе было одной из составляющих гораздо более значительной кампании, направленной на то, чтобы подчеркнуть низменную натуру неприятеля. Отчеты об обращении с военнопленными, выдержки из дневников и писем, конфискованных у немецких солдат, официальные приказы — все это печаталось, чтобы подробно изобразить то варварство, которое пережили оказавшиеся на фронте, а в бесчисленных статьях описывались насилие, убийства и бедствия, что постигли советских людей, оказавшихся на территории нацистской оккупации [302]. Фотокадры, часто сопровождавшие подобные статьи, как правило, подавались в виде серий, чтобы создать максимальное ощущение масштабов страдания, — при этом делалось мало различий между тем, что уместно для военной аудитории, и тем, что попадет к широкому читателю. Визуальные материалы, печатавшиеся в разных изданиях, фактически не отличались друг от друга: например, в статьях о зверствах в отношении жителей хутора Вертячий под Сталинградом, опубликованных в «Правде» (21 декабря 1942 года) и «Красной звезде» (22 декабря), использовались одинаковые фотографии, которые были совершенно идентично расположены на газетной полосе [303].
Таким же образом в марте 1943 года последствия семимесячной нацистской оккупации Ростова-на-Дону освещались в «Известиях» и «Правде»: одинаковые статьи, выпущенные Совинформбюро, и идентичные душераздирающие фото, сгруппированные в центре полосы, на которых в подробностях крупным планом были изображены последствия захвата города немецкими войсками [304]. Подобные фотоматериалы появлялись не только в газетах: во время войны даже журналы вроде «Огонька» часто публиковали свидетельства зверств, а позже напоминали своей читательской аудитории об ужасах концлагерей. Именно на страницах «Огонька» были впервые опубликованы фотографии Дмитрия Бальтерманца, на которых были запечатлены убитые нацистами евреи из черноморского города Керчь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: