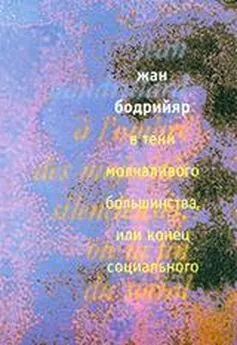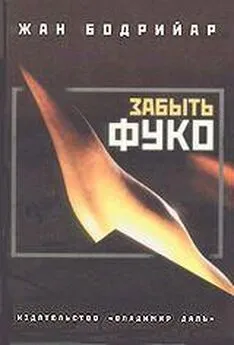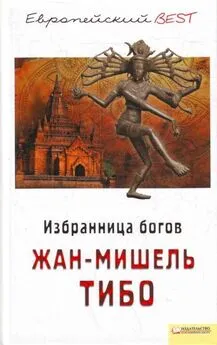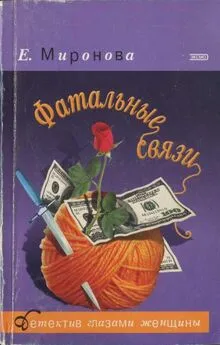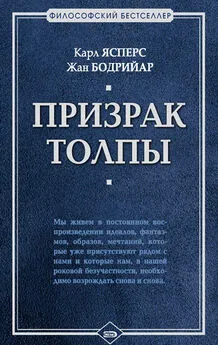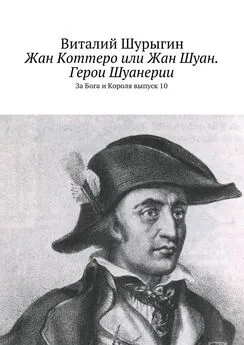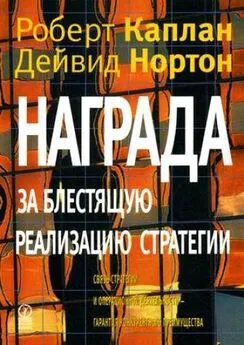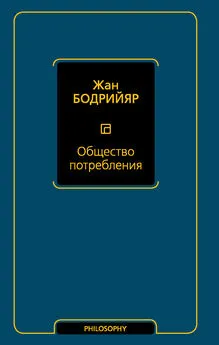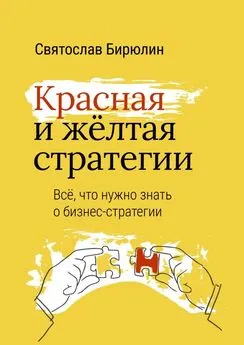Жан Бодрийар - Фатальные стратегии
- Название:Фатальные стратегии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-10198-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Бодрийар - Фатальные стратегии краткое содержание
Фатальные стратегии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Экран не репрезентирует ничего – ни телевизионный, ни социологический. Ошибочно будет думать, будто соцопросы могут что-либо отражать, так же как слово выражает вещь, образ – реальность или лицо выражает внутренний мир. На репрезентативность еще может претендовать разве что избирательная система, потому что она изображает релятивную диалектику тех, кто представляют, и тех, кого представляют. Относительно экрана нет ничего подобного. Модель, в противоположность концепту, принадлежит не к порядку репрезентации, а к порядку симуляции (виртуальной, алеаторной, разубеждающей, ирреферентной), поэтому абсолютно бессмысленно применять к ней логику системы репрезентации. Отсюда и происходят все недоразумения и бесконечные пустые споры о ее значимости и ее «правильном применении (как в рекламе: кто ввел социализм – Сегела [83] Жак Сегела (р.1934) – французский специалист по рекламе, избирательным технологиям и политическим коммуникациям, соучредитель агентства RSCG.
или Миттеран?). Абсурд и неразрешимость – смешивать две разнородные системы, параметры которых не могут быть транскрибированы из одной в другую. Иллогично проецировать операциональную, статистическую, информационную, симулятивную систему на систему традиционных ценностей – репрезентации, воли и общественного мнения (взглядов и убеждений). Этого недоразумения достаточно, чтобы кристаллизовать всю моральную философию информации.
Каким бы образом ни совершенствовались опросы, они никогда ничего не будут отражать, потому что их правила игры не являются правилами игры репрезентации. Их логика полностью согласована с логикой объективности, но по окончании этого процесса объекта уже не существует: следовательно, это уже объективность в чистом виде! Удивительная ирония! Это относится и ко всем медиа: в пространстве симуляции, то есть там, где нет ни истины, ни лжи, любая деонтология [84] Деонтология (наука о должном) – раздел этики, в котором рассматриваются проблемы моральных требований, долга и должного.
становится исключительно лицемерной. О деонтологии опросов (или же медиа) говорить так же нелепо, как говорить о деонтологии моды – отсутствующей ввиду того, что ее движущей силой стала не постоянная игра на противопоставлении красивого и безобразного, а на неразличении этих двух полюсов и на недифференцированном вращении их в обобщенном эффекте соблазна.
Впрочем, если предположить, что можно было бы привести опросы к степени полной достоверности, если предположить, что можно было бы предоставить информации определенный кредит истинности, то это было бы началом драмы. Ведь этот идеальный отпечаток, полученный с социального, был бы равносилен освобождению от его драматической случайности. Эта достоверность означала бы, что социальное побеждено техникой социального. А в этом как раз и заключается дьявольская цель всякой симуляции. Именно с этого и начинается мягкая технология истребления. Вот почему реальная проблема начинается с гипотезы о безотказной работе, ведь важными является не искажение истины внутри механизма, а искажение всего реального объективной надежностью этого механизма.
Как восхитительна [belle] была информация в эпоху истины! Как восхитительна была наука в эпоху реального! Как восхитительна была объективность в эпоху объекта! Как восхитительно было отчуждение в эпоху субъекта! И т. д.
Так что заблуждаются и те, кто уповает и восхваляет благотворное использование медиа, и те, кто возмущается манипулированием с их стороны, поскольку нет ничего общего между системой смысла и системой симуляции. Реклама и опросы абсолютно неспособны отчуждать волю или мнение кого бы то ни было, поскольку они не действуют в том пространстве-времени воли и репрезентации, где формируется суждение. По той же причине они неспособны прояснить волю или мнение кого бы то ни было, потому что они не относятся к той сцене общественного мнения, одновременно театральной и репрезентативной, которая представляет собой саму сцену политического. Так что не надо беспокоиться: они не способны разрушать. Но не надо строить иллюзий: они так же не способны и прояснять.
Именно этот разрыв между двумя системами сегодня коллективно погружает нас в состояние оцепенения, неуверенности относительно нашей собственной воли, выбора, мнения. Мы никогда не узнаем, реально ли влияют реклама и опросы на чью-либо волю, но также мы никогда не узнаем и того, что было бы, если бы не существовало никакой рекламы или опросов. Экран, который создают медиа (информация) вокруг нас, – это экран полной неуверенности. Причем абсолютно новой неуверенности, ведь эта неуверенность происходит не из недостатка информации, а из самой информации, из ее избытка. В отличие от обычной неуверенности, которую всегда можно было разрешить, эта неуверенность неразрешима и, следовательно, никогда не будет устранена.
Такова наша судьба – объектов опросов, информирования, статистики: столкнувшись с предвосхищающей верификацией нашего поведения, поглощенные этой постоянной рефракцией, мы уже больше не сталкиваемся ни с собственной волей, ни с волей другого. Мы даже больше не отчуждены, ведь другого не существует – сцена другого, как и сцена социального и политического, уже исчезла. Каждый индивид включен в неразрывную когерентность статистических данных. Экстраверсия без апелляции, так же как и неуверенность.
Обсценность, присущая опросам, проистекает не из того, что они выдают тайну мнения, интимность желания или нарушают некое неотъемлемое право на приватность (если бы тайна на самом деле существовала, то никто не смог бы ее выдать, даже ее обладатель) – она проистекает из статистического эксгибиционизма, из непрерывного вуайеризма группы по отношению к себе самой: в какой-то безумной ипохондрии ей все время надо знать, что она хочет, что она думает, видеть себя в цифрах на видеоэкране, расшифровывать кривые своих настроений, – в социальной одержимости самой собой она становится своим собственным пороком, своей собственной перверсией. Сверхинформированность приводит ее к ожирению самой собой.
Массы также погрязли в этом бесполезном переизбытке информации, которая будто бы проливает на них свет, а на самом деле лишь загромождает пространство и аннулируется в эквивалентности молчания. И никто не может ничего поделать с этим круговращением масс и информации.
Оба явления соответствуют друг другу: ни массы не имеют мнения, ни информация их не информирует, и то и другое чрезмерно перекармливает друг друга – скорость обращения информации увеличивает лишь вес масс, но вовсе не уровень их сознательности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: