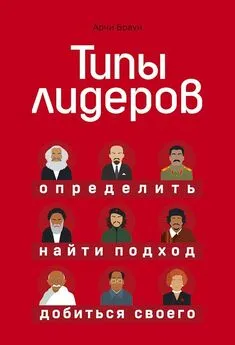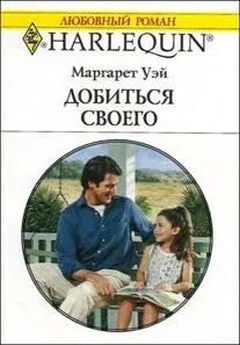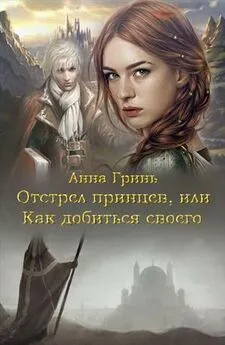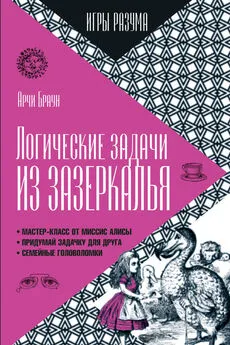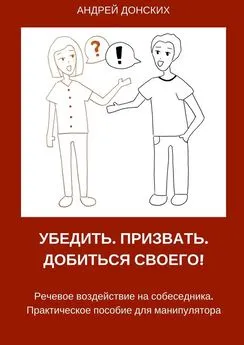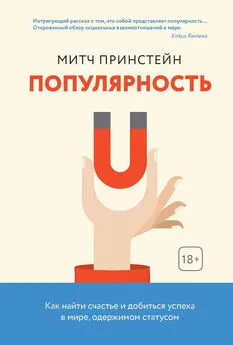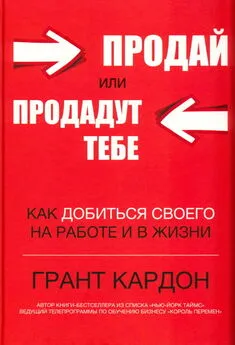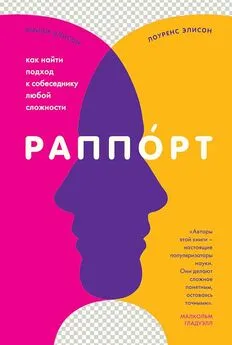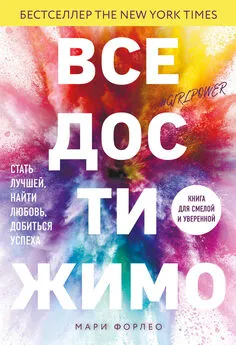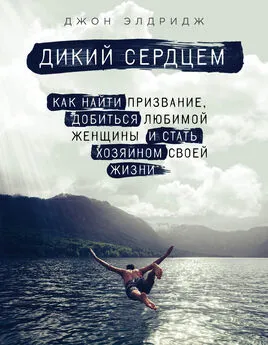Арчи Браун - Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего
- Название:Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-097976-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арчи Браун - Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего краткое содержание
Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На следующий день король в мундире генерал-капитана, высшего воинского чина страны, выступил по телевидению с речью, в которой заявил, что не потерпит этой попытки прервать демократический процесс. Хотя значительное большинство испанцев выступало против переворота, позиция короля имела огромное значение для его окончательного провала. Команды короля военные воспринимали значительно лучше, чем призывы политиков или общественное мнение. Переворот не удался, а офицеры-заговорщики были арестованы и впоследствии приговорены к различным срокам тюремного заключения. Возрожденный институт монархии не пользовался особой популярностью. Предоставленная ему легитимность была — и остается — хрупкой и сильно зависит от поступков человека, находящегося на троне. Хуан Карлос заслужил уважение к себе тем, что сначала назначил Суареса, затем согласился с переходом Испании к демократии и собственной ролью конституционного монарха, а самое главное, своей твердой позицией во время февральского переворота 1981 года. По замечанию Хуана Линца и Альфреда Степана, Хуан Карлос «легитимизировал монархию в большей степени, чем монархия легитимизировала короля» [536].
Однако из всех тех, кто принимал режим Франко и процветал при нем, именно Суарес сыграл ключевую роль в быстром переходе Испании от авторитарного государства к политической демократии. Его принадлежность к старому истеблишменту означала, что он в достаточной мере сохранял в себе определенную часть мнений этого круга, даже легализуя прежде запрещенные политические партии и без малейшего промедления проводя подлинно демократические выборы. Он никоим образом не был харизматичным лидером. (Из всех политиков постфранкистской эпохи этому определению в наибольшей степени соответствовал Фелипе Гонсалес.) Не был он и «сильным» лидером, если считать таковым того, кто полностью доминирует над своим окружением. Он искал консенсус и использовал коллегиальный стиль руководства. Он шел на уступки и компромиссы, но неуклонно следовал своей цели — установлению демократии. И в этом он был поразительно успешен.
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев — лидер, под руководством которого произошли еще более радикальные перемены, чем те, которые случились при Суаресе. Начнем с того, что он пришел к власти в стране, которая была «супердержавой» как минимум только в военном отношении, и в течение нескольких десятилетий обеспечивала существование коммунистического режима не только в своем многонациональном советском государстве, но и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. В этой связи системные изменения в Советском Союзе имели намного более масштабные последствия, чем фундаментальные перемены в Испании [537]. Тем не менее между случаями Суареса и Горбачева можно провести несколько важных параллелей. Оба выросли в рамках старого режима, и большинство советских диссидентов, равно как и иностранных лидеров, считали, что любые реформы, которые может предпринять Горбачев, будут ограничены крайне узкими рамками. Считалось само собой разумеющимся, что Горбачев не станет делать ничего, что могло бы угрожать монополии КПСС на власть или подорвать внутреннюю иерархию строя. Равным образом считалось, что он никогда не рискнет пойти на разрушение советской гегемонии в Восточной Европе. О том, чтобы потерять любую из стран, которые в глазах государственных руководителей партии и правительства (не говоря уже о ее военно-промышленном комплексе) выглядели заслуженными геополитическими трофеями победы во Второй мировой войне, не могло быть и речи.
Горбачев — выдающийся пример политического лидера, кардинально изменившего ситуацию лично, даже несмотря на то, что в Советском Союзе второй половины 1980-х годов существовало множество серьезных оснований для осуществления перемен [538]. Темпы экономического роста снижались уже на протяжении длительного времени. Процветал лишь военно-промышленный комплекс, но это процветание происходило за счет всей остальной экономики. Уровень жизни населения, значительно возросший по сравнению со сталинскими временами, был тем не менее намного ниже, чем в соседней Скандинавии и в Западной Европе. Предпосылки перемен вызревали в том числе и благодаря одному из наиболее очевидных успехов коммунистического периода — росту образованности. Сильный сектор высшего образования с множеством высококвалифицированных специалистов в университетах и исследовательских институтах представлял собой потенциальный круг активных сторонников радикальных реформ.
При этом в советской системе существовали тщательно продуманный ассортимент поощрений за политический конформизм и иерархическая система санкций и наказаний для несогласных и диссидентов. Риски радикального реформирования представлялись советским властителям несопоставимо большими по сравнению с потенциальными выгодами. Если считать их высшим приоритетом незыблемость коммунистической системы и Советского Союза, то в 1992 году, когда уже не существовало ни одно, ни другое, они могли с полным основанием утверждать, что такая осторожность была полностью оправданной. Несмотря на предстоящий в скором будущем кризис, в середине 1980-х годов Советский Союз оставался стабильным, невзирая на наличие базовых проблем [539]. Даже в течение тринадцати унылых месяцев пребывания на посту генерального секретаря ЦК КПСС — а следовательно, руководителя государства — Константина Черненко общественное недовольство ограничивалось лишь ворчанием в домашней обстановке. Несмотря на то что одним из стимулов к переменам были недостатки административно-командной системы управления экономикой (даже с учетом успехов в военных технологиях и изучении и освоении космического пространства), в 1985 году Советский Союз не был в кризисном состоянии. Нельзя говорить о том, что необходимость реформ была продиктована кризисом — скорее, кризис был результатом радикальных реформ. Мнение о том, что советская экономика была в столь бедственном состоянии, что Горбачев вынужденно взялся за осуществление реформ, является ошибочным объяснением произошедших глубоких перемен. Невозможно объяснить экономической необходимостью то, что уже очень скоро, совершенно определенно — к началу 1987 года, Горбачев стал отдавать приоритет политическим реформам над экономическими. Можно говорить о том, что политическая реформа была необходима для преодоления упорного сопротивления бюрократической оппозиции рыночной экономике. Однако Горбачев занимался либерализацией и демократическими преобразованиями как таковыми и позже признавал: «В пылу политических баталий мы упустили из виду экономику, и люди не простили нам нехватку продуктов повседневного спроса и очереди за товарами первой необходимости» [540].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: