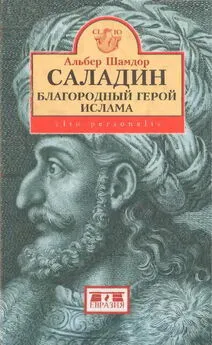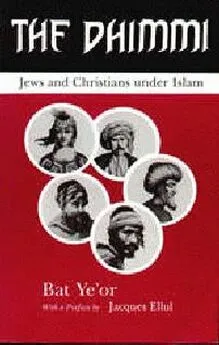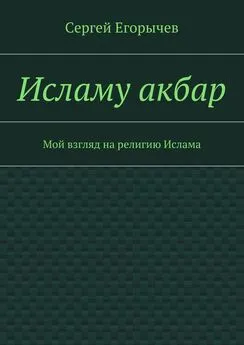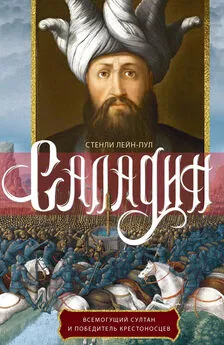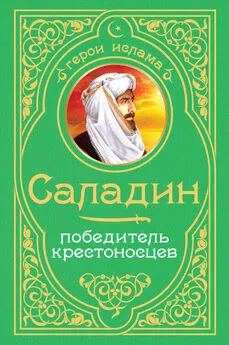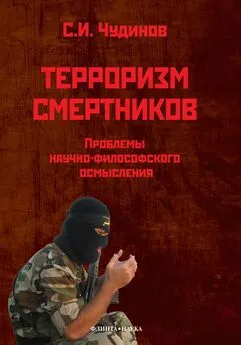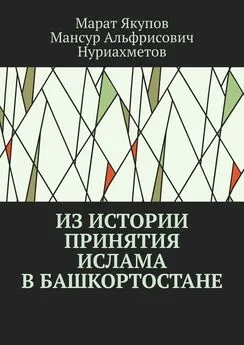Альбер Шамдор - Саладин, благородный герой ислама
- Название:Саладин, благородный герой ислама
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8071-0158-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Шамдор - Саладин, благородный герой ислама краткое содержание
Саладин, благородный герой ислама - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вновь пришла весна, ливанская весна, наступающая в марте. На фоне теплых солнечных дней равнина Акра казалась просторнее, а ближайшие отроги галилейского хребта принимали под необыкновенно красивым небом более четкие очертания. Конрад Монферратский, доблестный защитник Тира, возобновил военные действия, атаковав с пятью десятками галиотов, используемых для транспортировки войск и продовольствия, египетский флот, который шел на помощь мусульманскому гарнизону Акры. Это морское сражение закончилось победой мусульман, множество христианских судов было захвачено, а остальные потоплены. Как раз в это время в июне 1190 года к Саладину прибыл гонец от Гатогигоса Калаат ар-Румского с письмом, сообщавшим о прибытии крестоносцев Фридриха Барбароссы, которое мы цитировали выше. И так как султан послал на север войска с целью перекрыть германцам дорогу на Алеппо, часть франков воспользовалась этим, чтобы атаковать на равнине Акра Малик ал-Адила, который командовал правым крылом мусульман. Малик ал-Адил потерпел бы сокрушительное поражение, если бы в христианском лагере не свирепствовал голод. Франкам во время удачной вылазки удалось опрокинуть недавно прибывший и хорошо снабженный продовольствием египетский отряд, но вместо того чтобы развить свой успех, они устремились в покинутый мусульманами лагерь и захватили всю провизию, которую смогли там найти. Пока они подкреплялись в лагере врага, их собственный лагерь был разграблен гарнизоном Акры, который также предпринял вылазку, но ограничился пленением христианских женщин. Малик ал-Адил, видя, что его не преследуют, приказал своим солдатам повернуть назад и вновь появился со своим войском, стыдясь того, что дрогнул перед оголодавшим врагом. Ему удалось отомстить. Франки, позволившие застать себя врасплох, были перебиты в только что разграбленных ими палатках. Мусульмане пощадили только двух женщин, которые мужественно оборонялись и которых они отвели к Саладину. Две другие женщины погибли во время боя. Арабские авторы уверяют, что крестоносцы потеряли в тот день четы-ре тысячи воинов, эта цифра подтверждается и в письме архиепископа Кентерберийского. Баха ад-Дин писал: «Враги Аллаха, отданные во власть Его защитников, имели наглость войти в лагерь исламских львов. Но они на себе испытали страшные последствия Его гнева. Меч Бога, вырвав дух из их тел, собрал их души и головы, оставив в пыли их трупы, в один миг равнина была покрыта ими, как листьями, которые опадают осенью. Убитые, громоздясь друг на друга, образовывали сплошную линию от нашего правого фланга до их собственного лагеря. Наши мечи напились их крови допьяна. Я вынужден был сесть на лошадь, чтобы пересечь эту реку крови». Он добавляет также, что мусульмане потеряли в этой битве только десять воинов. «Посреди лугов, — пишет и Имад ад-Дин, — лежали распухшие трупы, которые разлагались на солнце, источая запах, привлекавший шакалов со всей округи». «В течение восьми дней, — замечает продолжатель Гильома Тирского, — река Белус была окрашена кровью и несла в своих водах мертвечину, люди из лагеря не могли набрать в ней воды, чтобы напиться. Было столько мух, что стоять на берегу реки было просто невозможно».
С этого рокового дня христиане начинают совершать непростительные ошибки. Пехотинцы, если верить свидетельству Эрнуля, поручили своим сержантам передать Ги де Лузиньяну, что ввиду крайней нищеты и нехватки продовольствия, которую они испытывают, необходимо было бы воспользоваться слабостью фронта Саладина, чтобы попытаться прорвать его и найти в его обильно снабженном лагере то, чего больше всего им не хватает, то есть провизию. Высшая франкская знать — у которой, конечно, не было подобного стимула для сражения, но без которой ни одно предприятие не могло увенчаться успехом, потому что в ее распоряжении находилась конница, представлявшая в ту эпоху серьезную силу, и от которой чаще всего зависел исход боя — рассудила, что было бы слишком рискованно затевать такое крупное предприятие, пока франки, осаждавшие Акру, не получат подкрепление, ожидаемое в ближайшее время из Европы. Они еще помнили разгром 4 октября. Король Ги де Лузиньян разделял их мнение. Но сержанты пренебрегли им и увлекли своих людей на смерть. Первая ошибка: если Ги де Лузиньян не хотел помогать своей пехоте, то почему он не запретил ей вступать в бой? Почему не помешал ей уйти? Трудно поверить, что у него не было возможности приказать своим рыцарям перекрыть все выходы из лагеря. Но самая непростительная ошибка была совершена тогда, когда, видя во время первой фазы сражения, что его люди побеждают и что мусульмане, захваченные врасплох, оставляют свои позиции, Ги де Лузиньян почему-то не бросил свою конницу в бой, чтобы поддержать пехоту и закрепить ее победу. Как объяснить пассивность бывшего короля Иерусалима — не знает никто. Неужели святое дело не объединило баронов и простых смертных? Невероятное соперничество между знатью и простым народом в этом крестовом походе в тот день принесло свои горькие плоды. Конечно, первые порывы энтузиазма, связанные с отъездом, происходившим при всеобщем ликовании, спали за время долгой дороги. Неприятности и разочарования, возможно, даже больше, чем религиозный идеал, усилили желание победить или умереть у этих людей, которые ради того, чтобы стать крестоносцами, очистить в походе свою душу, в момент наивысшего религиозного экстаза поклялись на Святом Писании принести в жертву самих себя, отречься от всего, независимо от того, богаты они или бедны. Но они были солдатами, а не мучениками. Сохранился ли еще там, под Акрой, у этих пришедших из дальних стран людей знак искупления — красный крест на правом плече? По-прежнему ли они замечали в золоте блуждающих облаков (как это случалось в годы, предшествовавшие завоеванию Иерусалима) небесную армию, готовую прийти им на помощь, или щедрую на чудеса северную аврору, как ту, которую видели крестоносцы под стенами Антиохии и Эдессы? Видели ли они еще огни, падающие, как звездный дождь, на голые холмы Апулии, и по-прежнему ли громадные толпы людей преклоняли колени по дороге в Иерусалим, заметив над Иудеей град, спущенный с небес и зависающий на сорок дней? Поражали ли еще их воображение эти знамения, которые предшествовали значительным событиям, захватывая его накануне битв, видимые ими только на пороге смерти?..
В оба лагеря подошли подкрепления. Имад ад-Дин Зенги прибыл в июне 1190 года, вскоре подошли Синджар Шах, Аллах ад-Дин Хоррен, Шах и Зейн ад-Дин, которые вернулись из Северной Сирии, где им удалось перекрыть войскам Фридриха Швабского дорогу на Алеппо. Атабеги Зенгиды наконец присоединились из-за священной войны, забыв на время, что Саладин был кровным врагом их рода. Ища поддержку в воинствующем исламе, представители которого не могли не принять участие в этой великой битве с христианами, развернувшейся под стенами Акры, Саладин даже отправил посла в Марокко, чтобы попросить помощи у альмохада Абу Юсуфа Якуб Мансура. Это посольство прибыло в Марракеш 18 января 1191 года. Оно просило, впрочем тщетно, марокканского владыку послать эскадру, чтобы соперничать с итальянскими флотами за господство на Средиземном море. «Необходимо, — писал Саладин, — чтобы мусульманский запад помог мусульманам еще больше, чем христианский запад помог неверным». Генрих Труаский, граф Шампани, привел франкам 27 июля 1190 года десять тысяч воинов, так же как «граф Тибо де Блуа, Этьен де Сансерр, Жан де Понтиньи, Рауль де Клермон, Бернар де Сен-Валери, Эрар де Шасеней, Робер де Бове, Алан де Фонтене, Готье д’Арзилльер, Ги де Шатодэн, Жан д’Аркиз и т. д.». Они прибыли весьма кстати, ибо христиане, страдавшие от голода, подумывали о том, чтобы заключить с Саладином соглашение. Это подкрепление вместе с силами Фридриха Швабского возвращало им утраченное преимущество. Они сжали кольцо вокруг Акры, гарнизоном которого командовали два храбрых военачальника: комендант крепости Баха ад-Дин Каракуш и курд Осса ад-Дин Абу ал-Хейджа. С суши крепость была окружена, тогда как несколько месяцев назад гарнизон еще имел сообщение с армией Саладина, который сам осаждал христиан, блокировавших Акр. Итальянские суда, доставившие графа Шампани и его войска, вернули франкам господство на море после злополучной морской битвы, о которой мы уже рассказывали, и египетский флот был вынужден избегать встречи с пизанскими и венецианскими кораблями, несущими неусыпный дозор вблизи порта Акра. С окруженным городом султан поддерживал связь благодаря искусным пловцам, которые проплывали под килем вражеских судов, перекрывавших вход в порт, и благодаря голубям, которые под Акрой были впервые использованы в военном деле для передачи приказов или новостей. Эти новости были для Саладина неутешительными. В Акре кончались запасы продовольствия. Султану с трудом удалось доставить осажденным галеру, груженную четырехстами мешками зерна и турецкого гороха, небольшими черными буйволами из Бекаа, луком, сыром и баранами. Хитрость, на которую он пошел, чтобы сделать это, увенчалась успехом: он приказал водрузить на мачту своего галеона флаг крестоносцев. Экипаж, облаченный в одежду франков и без бород, большей частью состоял из христиан-отступников. Баха ад-Дин утверждает даже, что франки-ренегаты из этого экипажа запросто беседовали борт о борт с крестоносцами, у которых они имели дерзость спрашивать, как идет осада и в каком месте удобнее причалить и выгрузить на берег продовольствие, которое они везут. Подойдя к входу в порт Акры, они устремились в него, налегая на весла и подняв все паруса, мимо растерявшихся капитанов христианских судов, которых обычно было не так-то легко провести. Чтобы избежать повторения случившегося, крестоносцы решили овладеть одной из башен — Башней Мух. Возведенная на скале, она являлась последним опорным пунктом, прикрывавшим вход в порт. Чтобы захватить ее, они построили на плоту многоэтажную деревянную башню, подобную греческой осадной машине. Эта конструкция высотой двадцать метров позволила им вести бой на уровне стен Башни Мух. Затем они превратили одну из своих галер в брандер, чтобы поджигать мусульманские суда, которые слишком близко подплывали к их экипажам. Но ветер сорвал их планы, ибо вместо того, чтобы скользнуть по воде в сторону вражеского флота, горящая галера устремилась к плавучей башне, которую крестоносцы построили с большим трудом. Башня обратилась в пепел, а находившиеся в ней солдаты, видя приближающееся пламя, усиливавшееся ветром, едва успели спастись. Те, кто сумели добраться до корабля, который должен был подобрать их, ринулись на него в таком большом количестве и в такой толчее, что тот пошел ко дну. Лишь немногим франкам удалось доплыть до берега. В их числе оказался Леопольд, герцог Австрийский. Он первым прыгнул на Башню Мух, где был ранен, а потом, окровавленный, бросился в море.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: