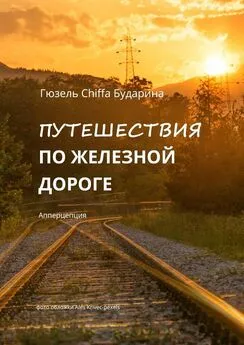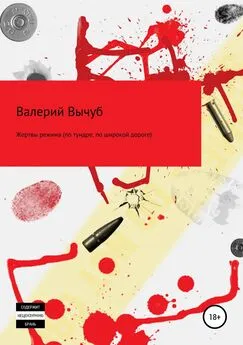Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В том-то и дело, что теоретически это было вполне возможно. Но — лишь в течение небольшого отрезка времени: с мая 1947 по январь 1950 года. Ни раньше, ни позже. Дело в том, что 26 мая 1947 года в Советском Союзе вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР от «Об отмене смертной казни», который гласил:
«Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской Родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза.
Вместе с тем международная обстановка за истекший период после капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных элементов спровоцировать войну.
Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу пожеланиям профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов, Президиум Верховного Совета СССР считает, что применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить в мирное время смертную казнь, установленную за преступления действующими в СССР законами.
2. За преступления, наказуемые по действующим законам смертной казнью, применять в мирное время заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет.
3. По приговорам к смертной казни, не приведённым в исполнение до издания настоящего Указа, заменить смертную казнь, по определению вышестоящего суда, наказаниями, предусмотренными в статье 2-й настоящего Указа».
Отсылка к исторической победе советского народа звучит несколько странно: со времени окончания Великой Отечественной войны прошло более двух лет… Более очевидное объяснение: государству для восстановления экономики требовалось огромное количество рабочей силы, которую можно было нещадно эксплуатировать без всякой оплаты труда. Поэтому было признано нецелесообразным уничтожать преступников: пусть лучше загибаются в лагерях. Одновременно резко увеличились сроки наказания. Буквально через полторы недели был также введён в действие указ (вернее, два указа) «четыре шестых» (от 4 июня 1947 года), который ужесточал уголовную ответственность за кражи и хищения всех видов: виновные карались сроками от 10 до 25 лет лишения свободы. Армия рабов ГУЛАГа стала пополняться ударными темпами.
Однако уже 12 января 1950 года указом ПВС СССР смертная казнь снова вводится в Уголовный кодекс — опять же «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры». Вот как раз в этот самый короткий отрезок времени — менее чем три года — за убийство охранника можно было схлопотать не расстрел, а «четвертак» — 25 лет лишения свободы вдобавок к уже имевшемуся сроку.
Правда, на деле сотрудники лагерей подобной гуманности по отношению к беглецам не проявляли, предпочитая убивать их при попытке к бегству или при оказании сопротивления (даже если никакого сопротивления не оказывалось). Так было на протяжении всей истории ГУЛАГа — и даже в период отмены смертной казни. Некоторых, взятых живыми, впрочем, нередко предпочитали травить собаками на вахте или избивать.
Обратимся вновь к Солженицыну (в своём романе он отводит побегам особую главу, и мы не раз ещё будем к ней возвращаться):
«Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. (Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола.) И ещё можно написать в Культурно-Воспитательной Части вывеску: “ Я бежал, но меня поймали собаки”, эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю.
А если бить — то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб [на всю жизнь] в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность (Г. Сорокин, ИвдельЛаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он оттуда не вышел. (НыробЛаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое.)
Собственно, избить и убить беглеца — это главная на Архипелаге форма борьбы с побегами».
Травлю собаками описывает Семён Беленький в своих воспоминаниях «Лагерь. ОЛП-1». Действие происходит в 1949 году на строительстве Волго-Балтийского канала, побегушников двое — как и в песне «По тундре»:
«Побрели к вахте. Оттуда вышли надзиратель с конвоем. Началось построение и пересчёт, во время которого выяснилось, что двоих наших нет. Нас оставили стоять под дождем, а надзиратель и конвоиры стали звать недостающих и ходить по объекту, отыскивая их следы.
Вскоре выяснилось, что эти двое бежали. Оба были родом из Новгородской области. Один из них, Волков, мужик лет сорока с лишним, бородатый, мрачный и озлобленный. Он на всех ворчал, клял советскую власть и непрерывно дымил махоркой. Второй — молодой здоровый солдат, за какую-то провинность попавший сюда из группы советских войск за границей. Их побег был, конечно, актом отчаяния и безумия — ушли без подготовки, без еды, не зная местности, в холодное время года, захватив со стройки один топор… Что толкнуло их к этому, я не знаю. Может быть, просто заметили прореху в ограждении и не смогли удержаться от соблазна? А может быть, решили любой ценой уйти или погибнуть.
Мы стояли в строю под дождём, а конвой, надзиратель и прибывшая им на подмогу команда с собаками продолжали поиск… Часа через два побегушников нашли собаки. Избитых, с наручниками на заведённых назад руках, их бросили перед колонной. Конвоиры били их сапогами, а устав, стали травить собаками. Собаки рвали в клочья их одежду и вырывали из тел куски мяса.
Волков умер сразу. Конвойные это поняли и оттащили труп в сторону, а молодого продолжали терзать. Наконец, оба тела бросили в телегу и повезли. Колонна двинулась к жилой зоне.
Перед входом в лагерь нас обыскали. Во время обыска в “шлюзе” мы видели тела беглецов, валявшиеся под проливным дождём на земле у вахты, — мёртвого и живого вместе».
Впрочем, некоторым отчаянным лагерникам везло. Если побегушник попадал живым внутрь зоны, на территорию лагеря, убивать его уже было нельзя. У поэта Анатолия Жигулина, бывшего колымского зэка, есть замечательное стихотворение «Памяти друзей» (1987), где он описывает побег, в котором участвовал:
Я полностью реабилитирован.
Имею раны и справки.
Две пули в меня попали
На дальней, глухой Колыме.
Одна размозжила локоть,
Другая попала в голову
И прочертила по черепу
Огненную черту.
Интервал:
Закладка: