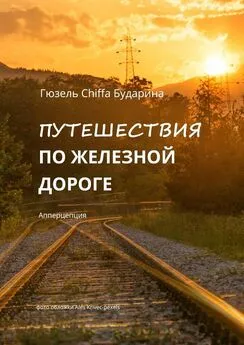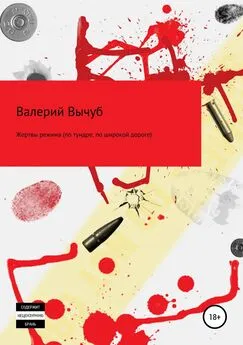Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот ещё одно свидетельство по поводу теплушек, из которых не бежали зэки. Это — из воспоминаний Ольги Слиозберг, эпизод относится к осени 1939 года:
«Однажды вечером, на каком-то длинном перегоне, слетел от тряски замок с двери, и дверь теплушки раздвинулась во всю ширь… В смрадный, душный воздух переполненной теплушки широкими волнами влилось дыхание степи, аромат трав и цветов. Мы замерли. И вдруг раздался истерический голос: “Конвой, конвой, закройте дверь!” Поезд шёл, никто не слышал. Раздались ещё голоса: “Надо вызвать конвой, а то подумают, что мы сделали это сами, хотели бежать”».
В таком поведении нет ничего удивительного и парадоксального. Как справедливо замечает Солженицын, помимо «идеологических цепей», было и много других:
«Другая цепь была — доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из-за него же нельзя было собрать запаса пищи в путь.
Ещё была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58-й же статье (постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58–14, контрреволюционный саботаж)…
Ещё держала зэков — не зона, а бесконвойность. Те, кого менее всего охраняли, кто имел эту малую поблажку — пройти на работу и с работы без штыка за спиной, иногда завернуть в вольный посёлок, очень дорожили своим преимуществом. А после побега оно отнималось.
Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма, хотя и не остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только от отчаяния.
…И кто найдёт в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и дойти! — а дойти-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, — кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? Только блатных на воле ждет уговоренная малина, а у нас, Пятьдесят Восьмой, такая квартира называется явкой, это почти подпольная организация.
Вот как много заслонов и ям против побега».
Да, пожалуй, одним из решающих аргументов в пользу бессмысленности побега было как раз то, что даже в случае удачи «политик» фактически бежал в никуда. Как поясняла уже упомянутая выше Ольга Слиозберг в случае с сорванным вагонным замком:
«Бежать не хотел ни один человек. Бежать могли люди, связанные с преступным миром, с политическими организациями. Ну что бы, например, могла делать я, если бы мне дали свободу, но не дали паспорта? Ведь дальше квартиры на Петровке в Москве мои мечты не шли, а на Петровке меня завтра же поймали бы и возвратили в тюрьму с дополнительным сроком.
Итак, мы стояли молча и смотрели на “свободу”, лежавшую на расстоянии вытянутой руки.
На ближайшем полустанке дверь закрыли, и видение свободы исчезло».
Виктор Бердинских в «Истории одного лагеря» (Вятлаг) тоже замечает: «Чаще всего “уходили в бега” уголовники. Политзаключённые совершали побеги крайне редко: подавляющее большинство “пятьдесят восьмой” твердо верили в конечное “торжество советской власти”, в ее “справедливость”, были убеждены в своей правоте и невиновности, ждали смерти Сталина и амнистии».
Жак Росси в своём «Справочнике по ГУЛАГу» тоже отмечает, что в побеги действительно уходили большей частью именно блатные: «Из лагерей… бегут прежде всего на всё готовые рецидивисты или более мелкие урки, для которых побег — своего рода экскурсия, после которой добровольно возвращаются. Очень редки побеги политических». Да и Солженицын пишет:
«Ворам… давали 82-ю статью (чистый побег) и всего два года, но за воровство и грабёж до 1947 года они тоже не получали больше двух лет, так что величины сравнимые. К тому ж в лагере у них был “дом родной”, в лагере они не голодали, не работали — прямой расчёт им был не бежать, а отсиживать срок, тем более что всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров — лишь игра сытого здорового тела да взрыв нетерпеливой жадности: гульнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По-серьёзному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжелыми сроками».
Однако я бы не был столь категоричен. Во-первых, не всегда для воровского сословия в ГУЛАГе была такая уж «лафа». Во время Великой Отечественной, по воспоминаниям многих лагерников, и на Колыме, и в Норильске, и в других местах воры вынуждены были работать; по этому поводу у них даже была специальная сходка. Дело в том, что в военное время действовала инструкция, согласно которой если заключённый не приступал к работе после двукратного предупреждения, караул имел право стрелять на поражение. И голодать в этот период «блатному братству» тоже порою приходилось. Однако в целом замечание верное в той части, что профессиональные уголовники чувствовали себя в местах лишения свободы зачастую не хуже (если не лучше), чем на свободе. Тюрьма и лагерь их не пугали. Не случайно и до сих пор чрезвычайно живуч уголовный афоризм-девиз — «Мой дом — тюрьма». Напомним, что по старому «воровскому закону» честный вор не мог иметь дом, имущество, обязан был отказаться от родных, не жениться… То есть он ничем не был связан со свободой.
И насчёт сроков за побег тоже не совсем верно. Да, до 1947 года с его драконовскими указами «четыре шестых» блатные бегали потому, что наказание в случае поимки было незначительным. Но после увеличения этого наказания бежать стали в разы больше! Именно потому, что терять всё равно нечего. Ну, добавят с «червонца» (или «пятнашки») до «четвертака» — и 10–15, и 25 лет лишения свободы для блатаря были почти одинаково громадными, необозримыми сроками, и ему нечего было терять.
Конечно, для «политиков» совершенно не характерно то мировоззрение, которое выражено в последнем куплете многих «традиционных» версий:
Мы теперь на свободе, о которой мечтали,
О которой так много в лагерях говорят.
Перед нами раскрылись необъятные дали,
Нас теперь не настигнет пистолета разряд!
Какие «дали»?! «Контрики» о такой свободе в лагерях не мечтали. Повторяю — были исключения, но они лишь подтверждали правила. Основная же масса «политиков» была инертна. Семён Милосердов, попавший в лесной лагерь прямо со студенческой скамьи, горько сетовал:
«Медвежатники» и «скокари»
Захватили в «зоне» власть:
— Эй вы, сталинские соколы,
Или с нами вам — не в «масть»?
Возле нар сижу и верю я,
Что не знал Он ничего
Про разбой кровавый Берии
И опричнину его,
И что банду ненавистную
Он прижмёт — держи ответ!
Мы сидим и ждём амнистию,
А её всё нет и нет…
Интервал:
Закладка: