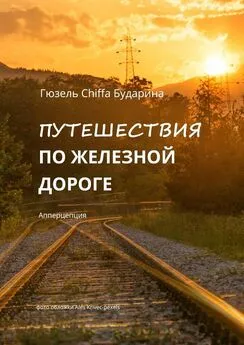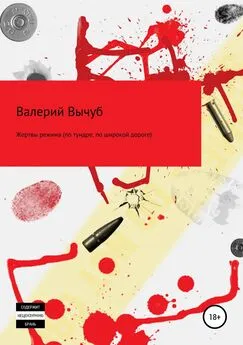Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, приведённый выше сонет, слишком «литературный», не прижился в памяти арестантского народа — даже среди «политиков». Упоминание о нём мне удалось найти лишь у Утевского (не сам ли Борис Самойлович его сочинил? [21] Выдающийся советский правовед родился в 1887 году.
). Почти не осталось воспоминаний и о «политической» переделке «Централки» на «Лубянку». Зато сохранились отрывки другой популярной некогда песни «контриков», которая посвящена исключительно Таганской тюрьме. И пелась всегда только с упоминанием Таганки.
Но для начала в очередной раз обратимся к мемуарам Валерия Фрида «Записки лагерного придурка», автор которой пишет: «За свои десять лет в лагерях я слышал много песен — плохих и хороших. Не слышал ни разу только “Мурки”, которую знаю с детства; воры её за свою не считали — это, говорили, песня московских хулиганов».
В целом верно подмечено. Однако это — если речь идёт о ворах, о блатных (что в сталинские времена считалось синонимами). А вот «политиков» такие тонкости «кодекса чести» как-то мало волновали. Надо сказать, что «Мурка» была широко известна и популярна во всех слоях советского общества. Что касается интеллигенции, богемы, к хулиганской песенке относились, конечно, иронически, но нередко использовали её мелодию и стилистику для всевозможных пародий и переделок. Например, о ледовом походе «Челюскина»: «Шмидт сидит на льдине, словно на малине, и качает сивой бородой». Можно также вспомнить, что Константин Симонов в 1943 году сочинил свою «Корреспондентскую застольную» именно на мотив «Мурки», о чём вспоминал в дневнике:
«Ехали через стык двух фронтов ненаезженной, непроторённой дорогой. За два дня пути почти никого не встречали, как это часто бывает на таких стыках. Водитель боялся случайностей. И я тоже.
Чтобы переломить себя, в дороге стал сочинять “Корреспондентскую песню” и просочинял её всю дорогу — почти двое суток…
В конце концов добрались до Батайска, где стоял штаб Южного фронта и находился фронтовой корреспондентский пункт “Красной звезды”… мой хмурый водитель, всю дорогу не проронивший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рождения новой песни, явился в санчасть с сообщением, что с ним с Северо-Кавказского фронта ехал сюда ненормальный подполковник, который всю дорогу громко разговаривал сам с собою.
Мы посмеялись над этим и спели на мотив “Мурки” (музыки Блантера тогда еще не было) сочиненную мной корреспондентскую песню:
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли…»
Оказывается, «Мурка» вдохновляла творческих людей не только на фронтах Великой Отечественной, но и в тюремных застенках. Краткое упоминание о «таганской песне» мы встречаем у того же Росси:
«Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
За дверьми гуляет вертухай…
(Из песни 30-х гг.; на мелодию “Мурки”)».
Более подробно излагает текст нескольких куплетов в мемуарах «Минувшее проходит предо мною» Юрий Юркевич:
«Можно было негромко петь. Исполнялся и тюремно-лагерный репертуар, вот хотя б песня 1937 года на мотив известной “Мурки”:
Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
А за дверью ходит вертухай.
Кушаю баланду, завербован в банду,
Пью три раза в день фруктовый чай.
Вечер наступает, Таганка оживает,
Хмурит брови юный лейтенант:
“Хватит запираться, надо признаваться
В том, что ты шпион и диверсант”.
Дальше о том, как этот лейтенант “зубы сокрушает, кости он ломает” и т. д.»
Старый гулаговец Лев Гурвич дополняет песню таганских политзаключённых новыми куплетами:
«…Тогда, холодным летом 1949 года, маялись в душной камере Новосибирской тюрьмы.
Ты моя родная, пятьдесят восьмая,
Вечная ты спутница моя… —
грустно напевали “повторники” песенку, сложенную в Таганской тюрьме и говорившую о том, что от этого ярлыка никогда не избавиться единожды его получившему, хоть и ни за что ни про что. Описывалась в ней и битком набитая камера:
Я сижу в Таганке, как в консервной банке,
А за дверью ходит вертухай.
Завербован в банду, лопаю баланду,
Пью три раза в день морковный чай.
Тридцать диверсантов, сорок террористов,
Пункт десятый — просто болтовня,
Двадцать три шпиона, это всё для фона,
А на самом деле — всё херня…»
Но вот эта ироничная песенка сохранилась лишь в отрывках из лагерных мемуаров. «Таганка» же как тюремное танго широко звучит на просторах нашей Родины и до сих пор. В чём же секрет подобной популярности?
Судьба кандальная, дамы и тузы
Для начала попытаемся ответить на чрезвычайно важный вопрос. Допустим, первоначально действительно возникла песня о Централке, а затем её перекроили в «Таганку» (то ли Высоцкий, то ли арестантский люд — по неведомым причинам). Но когда именно возник первоначальный текст? Со всей определённостью ответить на это не так просто. Дело в том, что с течением времени оригинал, судя по всему, серьёзно изменялся, добавлялись новые куплеты, детали… Какие-то более поздние корректировки можно определить, что мы и попытаемся сделать. Но удаётся это далеко не всегда.
Так, Лидия и Майкл Джекобсоны относят «Таганку» к 20-м годам XX века, однако фольклорист Андрей Башарин в рецензии к их двухтомнику «Песенный фольклор, ГУЛАГ и исторические источники» делает любопытное примечание: «Относя песню “Цыганка с картами” к 20-м годам, авторы пишут, что “её терминология (казённый дом, центральная тюрьма, столыпинский вагон) использовалась как до, так и после революции”, не принимая в расчет, что уже в следующем варианте (также приведённом в книге) поминается и “кандальный звон” и “судьба кандальная”, чего после революции, кажется, уже не было».
Действительно, такой вариант первого куплета существует и даже дошёл до наших дней:
Мне нагадала цыганка с картами
Дорогу дальнюю, казённый дом.
Дорога дальняя,
Тюрьма центральная,
Судьба кандальная мальчишку ждёт.
Похожий вариант приводят Джекобсоны; в современных версиях «судьба кандальная», впрочем, меняется на «смерть коварную». То есть Башарин, наряду ещё с некоторыми исследователями, предполагает, что песня скорее всего могла возникнуть до революции. К аргументам в пользу этой версии можно добавить и упоминание «бубнового туза» в некоторых вариантах «Таганки»/«Централки». В самом деле, Февральская революция 1917 года отменила и кандалы, и нашивки в виде ромбов («бубновый туз») на одежду осуждённых.
Версия заслуживает внимания. Действительно, в Российской империи существовали центральные каторжные тюрьмы (чего не было при Советах). Одна из самых известных — уже упомянутый Александровский централ. После революции 1905 года последовал ряд изменений в тюремной системе империи. В частности, некоторые губернские тюремные замки были тоже преобразованы в каторжные централы (тюрьмы центрального подчинения) — Шлиссельбургский, Орловский, Вологодский, Московский, Владимирский, Зерентуйский и т. д. Здесь содержались политические заключённые, отсюда же их отправляли на каторгу. Так что в тексте не случайны мотивы расставания, дальней дороги (и даже в некоторых вариантах — прямое упоминание Сибири).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: