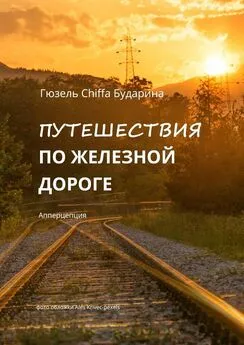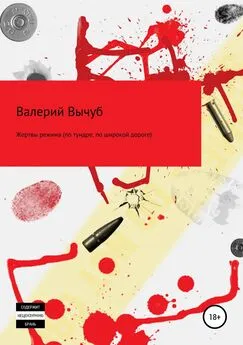Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Правда, песня на мотив танго могла возникнуть не ранее 1913 года, когда танго буквально взорвало Россию (в Европе первые исполнения и записи аргентинского танго появились в 1909–1911 годах).
К тому же наш старый знакомец Ян Павловский, отстаивая «польскую генеалогию» песни, представил ряд возражений:
«Некоторые исследователи считают, что песня возникла ещё до революции, ссылаются при этом на упоминание в тексте туза. Да, действительно, на спине арестанта-каторжника имелась квадратная нашивка, которая именовалась бубновым тузом. Была она жёлтого цвета. Но! Во-первых, Таганка не была пересылкой, она была губернской тюрьмой. В ней сидели, отбывали наказание уголовники, а не ожидали этапа каторжники. “Туз” же нашивался только на одежду каторжника. Во-вторых, в тексте упоминается пиковый туз, хотя и бубновый ложится в рифму. Но пиковый туз — как символ чёрного невезения, неудачи более уместен. Вариантов у песни много, но все они появились после возникновения самой песни. Во всех случаях упоминание туза не свидетельствует о появлении песни до революции».
Рассмотрим аргументы по порядку. Прежде всего, мы уже пришли к выводу, что первоначально в арестантской песне упоминалась не Таганка, а Централка. Поэтому нестыковка исчезает сама по себе: центральные каторжные тюрьмы использовались и как место отбывания наказания, и как место формирования и отправки этапов на каторгу.
Но даже если бы мы вдруг согласились с Павловским и представили, будто упоминание о Таганке присутствовало в песне изначально, и в этом случае его возражение оказалось бы нелепым, поскольку в сибирскую и дальневосточную каторгу отправлялись осуждённые не только из центральных тюрем. Достаточно вспомнить историю с революционной песней «Смело, товарищи, в ногу!», которая уж точно возникла в стенах Таганки. Текст её написал Леонид Радин в 1897 году, сидя в губернской тюрьме «Каменщики» по делу московского «Рабочего союза». А в конце февраля 1898 года партия заключённых этой тюрьмы перед отправкой в Сибирь заучила песню наизусть и затем разнесла по каторге. Кстати, в Бутырском централе песню подхватили уже позже, а затем она разошлась по России посредством многочисленных публикаций. То есть на каторгу можно было легко попасть из любой тюрьмы. В то время не было разделения «крыток» на тюрьмы и следственные изоляторы. Стало быть, если вместо «тюрьмы центральной» в песне упоминается «судьба кандальная», это нисколько не противоречит возникновению песни в дореволюционной России.
Что касается «бубнового туза», история ещё интереснее.
Конечно, никто не будет спорить с тем, что «бубновые тузы», то есть нашивки на форменной одежде каторжан (только правильнее сказать — ромбы, а не прямоугольники), появились именно в царской России. Такой «бубновый туз» служил для распознавания узников и затруднял побег. Разве что можно поправить Павловского насчёт цвета. «Тузы» были не только жёлтыми, но также красными и даже чёрными. Например, революционер-народоволец Пётр Якубович, который провёл восемь лет на Карийской и Акатуйской каторге, вспоминал в мемуарах «Мир отверженных»: «Просто жаль было смотреть на него, облечённого в серую куртку с двумя чёрными каторжными тузами на спине». Вот так: даже по два «туза» порою нашивались — видимо, для верности прицела.
Но для нас важен не цвет. Куда важнее, что, оказывается, «бубновые тузы» существовали и позже, в ГУЛАГе! Вот что вспоминает, например, уголовник Виктор Пономарёв, прошедший сталинские лагеря, в своих «Записках рецидивиста»: «“Тузами” называли тех, кто сидел у нас по пятьдесят восьмой статье. У них на спине куртки и бушлата был нарисован квадрат и номер. Это придавало им сходство с карточным бубновым тузом». Именно тогда появилось блатное выражение «объявить туза за фигуру», то есть выдавать незначащего человека за авторитетного: «политиков» блатные считали изгоями лагерного мира.
Такие нашивки были введены в 1943 году. По указу от 19 апреля были восстановлены каторжные работы (отменённые после Февральской революции) в отношении изменников Родины, из-за смягчающих обстоятельств избежавших смертной казни. Через три месяца, 17 июля, утверждается «Инструкция по учёту и этапированию заключённых, осуждённых к каторжным работам», которая закрепляет регламент использования личных номеров арестантов: «Личным делам каторжников присваиваются номера по книге регистрации осуждённых к каторжным работам… Номера личных дел исчисляются сериями с № 1 по № 999 включительно. Каждой серии в свою очередь присваивается буква алфавита, проставляемая перед номером дела… После номера проставляются буквы “КТР” [22] КТР — осуждённый на каторжные работы, использовалось вместо сокращения «з/к» (заключённый).
… Номер личного дела (без добавления “КТР”) нашивается на одежду каторжников».
Номер присваивался каторжнику навсегда и в случае его смерти не передавался новичку. Как пишет Жак Росси, «лагеря КТР были размещены на территории гулаговских ИТЛ, в отдалённых местностях (Воркута, Казахстан, Колыма, Норильск, Тайшет), но контакты между КТР и з/к были практически невозможны… На работу и с работы водили КТР колоннами по 5 человек в ряд, причём все правые руки всех правых крайних и все левые руки левых крайних соединялись цепью». Так что, как видим, на сталинской каторге существовали и кандалы. Такое подразделение ГУЛАГа так и называлось — «кандальное лаготделение».
Казалось бы, стилистика и содержание песни «Таганка»/«Централка» не особо вяжутся с каторжными лагерями для «изменников Родины». Тот же Росси поясняет: «“Изменниками” признавались советскими судами коллаборационисты, как, например, полицаи, оставшиеся на посту рабочие газового завода или няни в детяслях, которые бежавшие перед наступлением немцев власти забыли эвакуировать». То есть как-то не особенно подходит под это определение «парнишечка»-рецидивист. Однако это не совсем так. На самом деле сталинская каторга предназначалась не только для «изменников и контрреволюционеров». И во время войны, и после неё многим уголовникам, осуждённым к смертной казни, этот приговор заменяли каторжными работами.
Так, например, случилось с участниками столичной бандитской шайки Самодурова. Трибунал приговорил Николаева, Фадеева, Новикова, Самодурова и Соболева к расстрелу, а Верховный Суд СССР заменил Новикову и Самодурову смертную казнь двадцатью годами каторжных работ (эти двое не совершили убийств).
Другую известную своими кровавыми преступлениями банду возглавлял некто Букварёв. Суд над ним и его сообщниками состоялся в июле 1946 года. Букварёва тоже приговорили к расстрелу, но Верховный Суд опять-таки изменил меру наказания на двадцать лет каторжных работ. Когда бандита выводили из зала суда, он радостно завопил: «Да здравствует МУР во всём мире!» Так что «бубновый туз» и «судьба кандальная» не обходили стороной и убийц, бандитов, грабителей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: