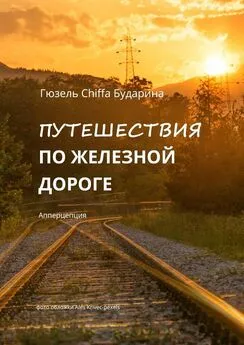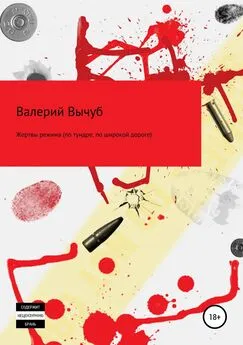Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот перл — вообще за гранью фантастики! Если господину Полянскому в слове «парнишечка» отчётливо слышится польский акцент, это — симптом тревожный. Либо речь идёт о слуховых галлюцинациях, либо — о дремучем невежестве. Я склоняюсь к последней версии. Поскольку не могу, отказываюсь понять, как можно отыскать «польский акцент» в слове, которое в польском языке напрочь отсутствует! Разумеется, как и его уменьшительно-ласкательные формы. Нет у поляков ни «парня», ни «парнишки», ни «парнишечки». Для того чтобы в этом убедиться, не надо большого напряжения ума: достаточно обратиться к русско-польскому словарю. Чаще всего слово «парень», «парнишка» переводятся на польский как chłopiec (хлопец), człowiek (человек, мужчина).
Само же слово «парень» — исконно русское, образовано от диалектного «п аря» (с тем же значением), которое является уменьшительным от «паробок» (украинское «парубок»), восходящего к «роб» — «мальчик». В то же самое время русское «парень» не исчерпывается значением «мальчик», более того, это, пожалуй, даже не основное его значение. У Владимира Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка» оба эти слова толкуются как «отрок, юноша, молодой человек, детина, молодец; холостой». То есть ограничиваться исключительно значением «мальчик» — значит, кривить душой, а проще говоря, мошенничать. У того же Даля, кстати, приводится и глагол «парневать» — «жить, быть холостяком». То же самое — в «Малом академическом словаре АН СССР»: «1. Лицо мужского пола, достигшее зрелости, но не состоящее в браке (первоначально молодой крестьянин); молодой человек, юноша… 2. (с оттенком фамильярности). Нестарый мужчина вообще». Практически те же самые толкования — во всех остальных словарях русского языка.
Правда, может возникнуть возражение: ну да, «парень» — он, может быть, и холостой мужчина, а вот уменьшительно-ласкательные «парнишка», «парнишечка» обозначают именно мальчика, юношу. Оставим в стороне вопрос, почему молодой человек не мог стать лирическим героем «Таганки»/«Централки». Гораздо любопытнее разобраться с тем, действительно ли слово «парнишечка» обозначает малолетку-юнца и имеет ли оно какое-то отношение к блатному жаргону.
Представьте себе — имеет! Начнём с «парня». В уголовном сообществе существует положительная характеристика «порядочного арестанта», которая звучит именно как «хороший парень». Хороший парень — это не просто нейтральная оценка. Это — арестант, близкий к так называемым «чёрным», «братве», «отрицаловке», то есть к осуждённым, которые противопоставляют себя администрации мест лишения свободы, являются приверженцами неформальных преступных традиций, «понятий». В блатном фольклоре, к слову, существует ироническая поговорка: «Кипяток — хороший парень, но без ч ифира — дурак!» Разумеется, и производные от «парня» расцениваются среди братвы как достойная характеристика: «Это наш парнишка, с ним можно вась-вась».
И всё же обратимся непосредственно к форме «парнишечка», на которой настаивает Павловский. Так, в одной из редакций своей статьи он пишет: «В “Таганке”… речь ведётся от имени молодого человека, “парнишечки” (но вовсе не мальчонки, как поет Шуфутинский), который, попав в “Таганку”, мысленно обращается к своей любимой, прощается с нею». В эссе на портале «Шансон» пассаж о Шуфутинском изъят, однако, как мы помним, автор не только постоянно упоминает исключительно «парнишечку», но и в качестве «железобетонного аргумента» придаёт слову «польский акцент».
Между тем «парнишечка» — лишь одно из определений лирического героя, причём, судя по всему, не основное, если говорить о письменных свидетельствах. Вспомним хотя бы «Записки лагерного придурка» Валерия Фрида: «Меня, несчастного, по новой ждёт». То же самое — в записи, условно датируемой 1960–1970-ми годами. В одной из записей «Централки»: «Меня, преступничка, по-новой ждёт». В расшифровке фонограммы 1970-х годов — «меня, бездомного…». Цитировали мы также и вариант Джаны Кутьиной с портала «Поэтическая речь русских», где вообще отсутствует определение героя.
Однако чаще всего альтернативой «парнишечке» выступает именно «мальчишечка» — как у Юрия Германа в «Жмакине»: «Меня, мальчишечку, давно уж ждёт». В фольклорных записях на том же портале «Поэтическая речь русских» находим исполнение Петра Чусовитина, который освободился из мест лишения свободы в 1988 году:
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, мальчишечку, по-новой ждёт…
«Мальчишечку», а не «парнишечку» упоминает также на этом сайте «инженер Владик Репкин» из Сан-Диего (зафиксировано в 1995 году).
То есть варианты с «мальчишечкой» встречаются как минимум не реже, нежели с «парнишечкой» — а, скорее, даже чаще. И в этом нет ничего удивительного, если обратиться к истории российского уголовного мира. Каторжники и уголовники дореволюционной России «мальчишками», «мальчонками», «мальчиками» называли всякого удалого преступника, сорвиголову, в том числе и взрослого, и даже старого. Это отразилось в «низовых» песнях. Вот что, например, пишет Александр Куприн в очерке «Вор» («Киевские типы, 1895–1897):
«У воров есть и свои собственные песни, навеянные тюремными музами. Песни эти говорят большею частью о суде и о горькой участи “мальчишки, отправляющегося на каторгу…”
Другая песня, с очень трогательным мотивом, похожим на похоронный марш, чрезвычайно популярна. Она начинается так:
Прощай, моя Одесса,
Прощай, мой карантин,
Нас завтра отвозят
На остров Сахалин.
И припев, печальный, почти рыдающий припев:
Погиб я, мальчишка,
погиб навсегда.
А годы проходят,
проходят лета».
Ту же песню вспоминает Куприн и в романе «Яма» (1909–1915). Позднее песня «Погиб я, мальчишка» распространилась по всей России благодаря исполнению известного оперного баса и даже записи её на пластинку в 1912 году. Можно привести в пример и знаменитый «Чубчик кучерявый», который приобрёл особую известность в 1930-е годы благодаря исполнению певцов-эмигрантов Петра Лещенко и Юрия Морфесси:
Пройдёт весна, настанет лето,
В садах деревья пышно расцветут —
А мне, бедному мальчонке,
Цепями руки-ноги закуют…
Если говорить конкретно о «мальчишечке», обратимся к старой уголовной песне «Летит паровоз по широким просторам» (авторство которой некоторые абсолютно неправомерно пытаются приписать Николаю Ивановскому):
А если заметит тюремная стража —
Тогда я, мальчишечка, пропал:
Тревога и выстрел — и вниз головою
Сорвался с барказа [24] Баркас, барказ — на старом жаргоне так называли стену.
и упал.
Интервал:
Закладка: