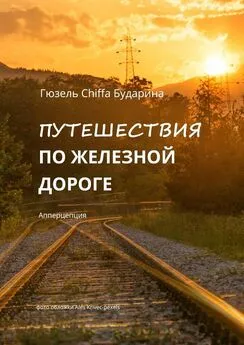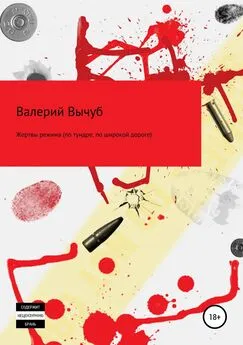Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А единая паспортная система в СССР была введена 27 декабря 1932 года. Именно тогда председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов и секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе подписали постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Все граждане СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в городах, рабочих посёлках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). Как объяснялось в постановлении, сделано это «в целях лучшего учёта населения городов, рабочих посёлков и новостроек и разгрузки этих населённых мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов». Кроме внутренних общегражданских паспортов, в СССР использовались также общегражданские заграничные паспорта, паспорта моряка, дипломатические паспорта, а также удостоверения личности военнослужащих.
Забавно, что незадолго до этого, в 1930 году, Малая советская энциклопедия гордо сообщала: «Паспорт — особый документ для удостоверения личности и права его предъявителя на отлучку из места постоянного жительства. Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики… Советское право не знает паспортной системы».
Суть ухвачена очень точно — «важнейшее орудие полицейского воздействия». Это — одна из главных причин введения паспортов на территории СССР. Хотя ради справедливости стоит отметить, что до введения паспортной системы в Советском Союзе царил полный бардак в этой области. Ещё с введением новой экономической политики возникла необходимость более точного учёта городского населения. Документы выдавались кем угодно на местах, любой формы и содержания, подделать и сфальсифицировать их можно было, как говорится, левой задней ногой, что, естественно, затрудняло работу правоохранительных органов, борьбу с преступностью, экономический учёт и контроль и т. д.
НКВД ещё в 1922 году разработал проект положения о введении единого вида на жительство в РСФСР, но это предложение отклонил Малый Совнарком, а затем и Президиум ВЦИК. Между тем нарком внутренних дел Александр Белобородов бил тревогу и жаловался в ЦК партии: «Потребность в установленном документе — удостоверении личности — так велика, что на местах уже приступили к решению вопроса по-своему. Проекты разработали Петроград, Москва, Турк-Республика, Украина, Карельская Коммуна, Крымская Республика и целый ряд губерний. Допущение разнообразных типов удостоверений личности для отдельных губерний, областей чрезвычайно затруднит работу административных органов и создаст много неудобств для населения».
В конце концов, с 1 января 1923 года ВЦИК запретил дореволюционные документы, а также любые другие бумаги, которые использовались для подтверждения личности, включая трудовые книжки. Вместо них вводилось единое удостоверение личности гражданина СССР. Но и эта мера оказалась бессмысленной и бестолковой. Комиссия Политбюро, которая в 1932 году рассматривала вопрос о паспортизации страны, пришла к выводу:
«Порядок, установленный декретом ВЦИК от 20.VI.1923 г., изменённый декретом от 18.VII.1927 г., являлся настолько несовершенным, что в данное время создалось следующее положение. Удостоверение личности не обязательно, за исключением “случаев, предусмотренных законом”, но такие случаи в самом законе не оговорены. Удостоверением личности является всякий документ вплоть до справок, выданных домоуправлением. Этих же документов достаточно и для прописки, и для получения продовольственной карточки, что дает самую благоприятную почву для злоупотреблений, поскольку домоуправления на основании ими же выданных документов сами производят прописку и выдают карточки. Наконец, постановлением ВЦИКа и Совнаркома от 10.XI. 1930 года право выдачи удостоверений личности было предоставлено сельсоветам и отменена обязательная публикация об утере документов. Этот закон фактически аннулировал документацию населения в СССР».
В таких условиях введение единой паспортной системы являлось вполне целесообразной и необходимой мерой. Если бы не одно «но». Совершенно понятно, что паспортная система не случайно возникла именно в 1932 году, то есть в период коллективизации деревни. Жителям советских деревень, согласно постановлению № 57/1917, паспортов не полагалось вовсе (за исключением колхозов, которые находились в стокилометровой приграничной зоне). Все крестьяне (колхозники и единоличники) обязаны были для выезда из деревни на срок более пяти дней иметь справку от местных органов власти, которая являлась главным документом для получения паспорта. Справка эта являлась действительной не более месяца. То есть фактически крестьянин прикреплялся к земле, становился советским крепостным.
Дело в том, что политика сплошной коллективизации приводила во многих случаях к обнищанию, разорению села. Яркие примеры приводит Елена Осокина в исследовании «За фасадом “сталинского изобилия”». Селяне писали: «Хлеба нет. Кормиться нечем, и жить больше невозможно». «Не могу ни в коем случае прокормить свою семью. Хлеба нет. Дом продал». «Хлеба не имею. Дети доносили последнюю одежду. Скота не имею. Существовать больше нечем». Доходило до того, что в колхозе «12 лет РКК» Макаровского района Саратовской области колхозники питались трупами павших животных, вырытыми из скотомогильников.
Крестьяне бросились спасаться в города. В колхозе «Красный Октябрь» (Оренбургская область) в декабре 1936 года из 106 хозяйств работали не более 25 %. Остальные от работы отказывались: «За что мы будем работать в колхозе, когда ни хлеба, ни денег не получили. Всё лето проработали задаром». В Ярославской области из некоторых колхозов к зиме 1936/37 года ушли на заработки все трудоспособные мужчины. Только в Рыбинском районе в 1936 году вышло из колхозов 362 хозяйства. В Курской области из Никольского района за август-декабрь 1936 года уехала половина трудоспособных колхозников. Выходили на работу не более трети и работали всего по 4–5 часов. В Сталинградской области НКВД зарегистрировало случаи самоликвидации целых колхозов. В Воронежской области в январе 1937 года выборочная проверка 87 колхозов в 16 районах показала, что в работах участвовало от 5 до 16 % трудоспособных.
Собственно, государству в период индустриализации нужна была дешёвая рабочая сила, и оно одной рукой удерживало селянина на земле, но другой — проводило в деревнях наборы на стройки народного хозяйства. Да и на самих стройках, где постоянно не хватало работников, нередко закрывали глаза на отсутствие «открепительной справки» из колхоза, зачисляли пахаря в пролетарии и выдавали ему паспорт. Период индустриализации, который пришёлся на 1930-е годы, связан со стремительной урбанизацией. Только за время первой пятилетки городская рабочая сила пополнилась на 12,5 миллиона человек, из них 8,5 миллиона — мигрировали из сельской местности. Результатом явилась деградация сельского хозяйства, которую отчасти удалось преодолеть лишь к концу 1930-х годов благодаря постепенной механизации колхозов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: