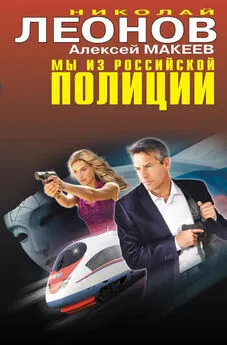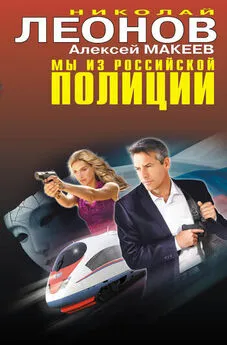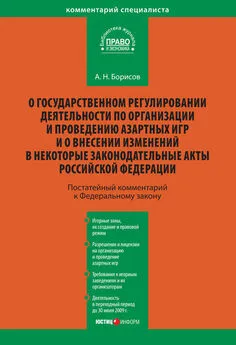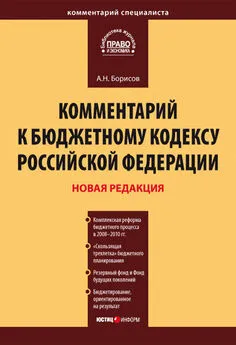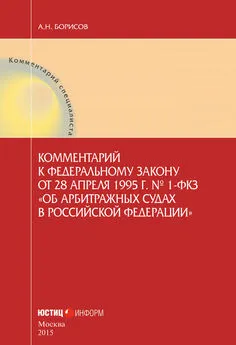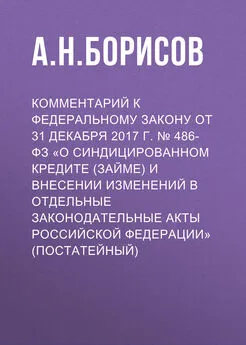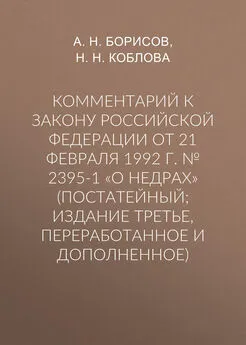Александр Борисов - Три века российской полиции
- Название:Три века российской полиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09033-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание
Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?
В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.
Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
<���…> Отвечая пред двумя начальствами, полиция, слушаясь одного из них, остается в ответе пред другим и вместо дела должна заниматься лавированием между Сциллой и Харибдой.
<���…> Такому двоеначалию не подчинено ни одно учреждение в России; такому двоеначалию не подчинена нигде полиция и на Западе, где все ее неправильные распоряжения по производству дознаний и следствий передаются прежде всего на усмотрение ее непосредственного начальства. Не надо, наконец, забывать, что в полиции, в этой безусловно специальной службе, много весьма опытных и весьма заслуженных чинов; ставить их в подчинение юным, неопытным товарищам прокуроров окружных судов, а притом и гораздо менее ответственным, чем чины полиции, не только оскорбительно, но и ни с чем не сообразно.
(В. Фукс. Суд и полиция; в 2 ч. — М., 1889. — С. 219–225.)
Интересно, что Г. В. Плеханов, обращаясь к этому случаю, охарактеризовал поведение толпы как «дикость». «Но ведь противодействие равняется действию, и странно удивляться, что дикий произвол полиции вызывает дикую подчас ярость народа», — писал он [523].
В сложном положении оказалась полиция Петербурга, Москвы, Киева в 1880–1890-е гг., когда в этих городах происходили массовые студенческие беспорядки. По свидетельству одного из участников выступлений, они вызывались проблемами студенческой жизни, молодым темпераментом и не имели политического характера. «При сколько-нибудь тактичном и находчивом образе действий властей студенческие манифестации угасли бы сами собой» [524]. Однако при отсутствии политических прав и свобод, в том числе права на митинги и манифестации, городские власти считали студенческие выступления недопустимыми и отдавали полиции распоряжения об их прекращении. Когда полиция пыталась предотвратить или разогнать манифестацию, собиралась толпа, в которой большинство сочувствовало студентам и освистывало полицию.

С. Ю. Витте
Более сорока профессоров Московского университета и пятидесяти профессоров Петербургского университета направили петицию царю и министру просвещения с осуждением действий полиции. Прошли и студенческие митинги с требованиями «предать суду полицию, учинившую расправу над студентами, и чтобы суд был гласным и освещался в газетах» [525].
Не только университетские профессора, но и другие представители общественности если и осуждали студенческие беспорядки, то еще больше не одобряли действий полиции и требовали «расследования возмутительного поведения полиции и наказания виновных». Те, кто не поддерживал этого требования, как, например, ректор Московского университета В. И. Сергеевич, теряли «свою либеральную репутацию <���…> в кругах общества» [526].
Для расследования причин студенческих волнений и деятельности полиции Николай II назначил комиссию под руководством бывшего военного министра П. С. Ванновского. На создании такой комиссии настаивали некоторые крупные сановники — член Государственного совета князь Л. Д. Вяземский и министр финансов С. Ю. Витте. Последний считал, что в студенческих беспорядках виновата в основном полиция, спровоцировавшая их своими действиями, и говорил о необходимости наказания высших полицейских чинов, вплоть до министра внутренних дел И. Л. Горемыкина [527]. С. Ю. Витте и И. Л. Горемыкин были принципиальными политическими противниками. В общественном мнении Министерство финансов, возглавляемое С. Ю. Витте, представлялось как «в целом прогрессивное», выступавшее за модернизацию страны. А Министерство внутренних дел, наоборот, считалось «оплотом реакции, выступавшим за консервацию существующего порядка» [528]. Отчасти поэтому министры внутренних дел становились объектом политического терроризма. Покушения готовились на министров внутренних дел Д. А. Толстого, И. Н. Дурново. Жертвами террористов стали министры внутренних дел Д. С. Сипягин, в 1902 г., и В. К. Плеве, в 1904 г.
«Комиссия Ванновского» пришла к выводу, что одной из причин студенческих беспорядков явились «неумелые и несоответственные действия полиции» [529]. Материалы «комиссии Ванновского» еще до их публикации использовались в прессе при обсуждении деятельности полиции во время студенческих беспорядков.

Рогожский полицейский дом, Москва
Предпринятый в 1903 г. правительством очередной шаг к усилению сельской полиции путем создания уездной полицейской стражи также встретил непонимание. По утверждению журнала «Вестник Европы», общество откликнулось на создание сельской полицейской стражи «несочувственно, хотя эта мера правительства и клонилась к водворению лучшего порядка». Критике подверглось преимущественно положение закона, устанавливавшего более чем скромные требования к кадрам стражников: «умение читать, писать и общее достаточное развитие» [530].
Либеральная общественность, особенно представители земских учреждений, считали, что укрепления порядка в уезде надо добиваться не путем усиления «казенной полиции», а за счет предоставления прав исполнять полицейские функции органам местного самоуправления. Упомянутый выше журнал предрекал заведомый неуспех властей с введением сельской полицейской стражи. «Одна из ближайших причин неудачи — трудность подобрать у нас удовлетворительную казенную стражу и плохой состав ее непосредственного начальства. (Сельская стража подчинялась становому приставу. — Авт. ) В деревне понятие станового чаще связывается со злоупотреблениями, чем с понятием водворения порядка. К обычной некультурности уездных полицейских чинов следует добавить их фактическую безнаказанность» [531]. Вскоре, как бы иллюстрируя это утверждение, вышел рассказ довольно популярного в конце XIX — начале XX в. писателя Е. Чирикова, персонажами которого были и уездные полицейские стражники, относящиеся к жителям деревни, особенно к женщинам, «с циничной простотой первобытного человека» [532].
По оценке большинства современников, реформы 1860-х гг. способствовали улучшению полиции. Однако ожидаемых результатов достигнуто не было, надежды на скорое и коренное исправление полиции не подтвердились.
Яркой демонстрацией отношения просвещенных слоев российских подданных к полиции стала так называемая «банкетная кампания», приуроченная к 40-летию судебной и земской реформ 1864 г. Кампания проводилась во всех крупных городах страны, и в ней приняли участие более пятидесяти тысяч человек. Большинство ораторов, выступавших на банкетах, отмечая прогрессивность и демократичность судебной и земской реформ, говорили о том, что полному претворению поставленных целей в жизнь мешает произвол властей, полиции. Так, В. Г. Короленко в речи на открытии «банкетной кампании» в столице назвал существующий в России политический режим «самодержавно-полицейским». (При публикации речи в газете слово «полицейский» было заменено на «бюрократический».) А известный общественный деятель князь Д. Шаховской, заказавший за свой счет банкет на шестьсот персон, предложил его участникам осудить «творимый полицией произвол» [533]. Популярной стала фраза одного из основателей и руководителей партии конституционных демократов Ф. Родичева: «…у российского правительства гипертрофия полиции и атрофия законности».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: