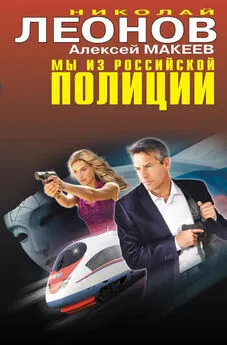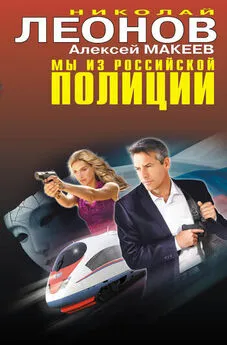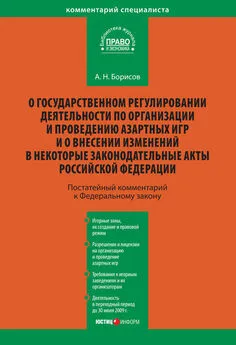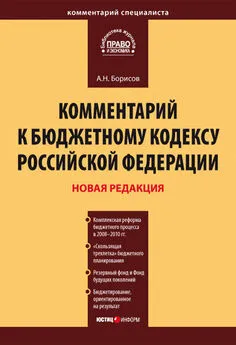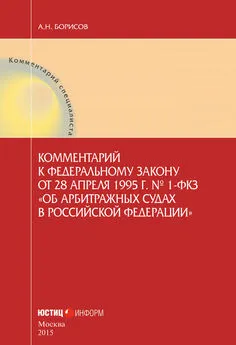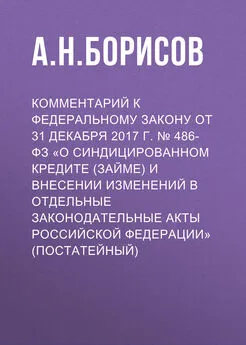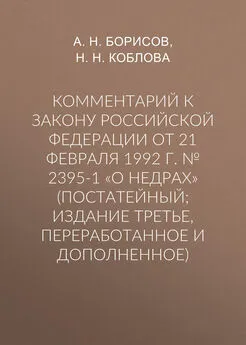Александр Борисов - Три века российской полиции
- Название:Три века российской полиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09033-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание
Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?
В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.
Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Челобитная шуйского иконописца Василия Иванова на иконника Луку Дьяконова; 1625 г.
Царю Государю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу всея Русии бьет челом и являет слуг твой Государев, города Шуи Троецкой дворник Сергиева монастыря Васька, Иванов сын, иконник; — в нынешнем, Государь, 131 году, в Сборное Воскресенье збежал, Государь, от меня ученик мой Луканька, Степанов сын, Дьяконов, а снес у меня живота моего 6 рублев с полтиною денег, да красок на полтора рубли, да золота сусального и серебра на три рубли, да кафтан шубной, да зипун сермяжной, да шапку синю, сукно настрафильно с пухом, да сапоги, да штаны сермяжные. Царь Государь, смилуйся, пожалуй вели мое челобитье и явку записать.
На обороте столбца написано:
«Дана явка Марта в 12 день нынешнего 131 году».
(Старинные акты… — С. 40.)

Наказание батогами в XVI в.
«Дома богатых московских вельмож всегда изобиловали вольнонаемной прислугой и холопами; число последних, благодаря постоянным войнам, увеличивалось без конца пленными. Их было такое множество, что, по словам Павла Алеппского, после войны с Польшей польские пленники продавались в Москве по полтиннику, не говоря уж о крымских татарах, которых постоянно приводили на продажу русские отряды, всегда находящиеся на стороже против них в степях. Эти невольники получали от своих господ крайне скудное содержание, потому были принуждены сами изыскивать себе пропитание. Вследствие этого, по словам современников, в Москве постоянно происходили самые страшные убийства и грабежи. Наглость грабителей простиралась до того, что во время пребывания в Москве Олеария там среди белого дня сделано было нападение с целью грабежа на царского врача: он был бы убит, если бы это не случилось у ворот одного боярина, его пациента, который, нуждаясь во враче, счел нужным отбить его у разбойников. Это был исключительный случай, так как обыкновенно обыватели Москвы не считали нужным выходить ночью на крики о помощи. Так, в то же время был убит в Москве на одной из многолюдных улиц гофмейстер шведского посланника, возвращавшийся от своего хорошего приятеля под вечер; он громко звал на помощь, но никто не вышел из дому. Его окровавленная одежда продавалась на другой день на рынке. Иностранцы приводят огромный перечень и других злодейств, совершенных в то время в Москве, и на основании их показаний можно смело сказать, что в ней не было ни одного иностранного посольства, которое вследствие этого не лишилось бы нескольких своих членов. На улице Белокаменной было не в диковинку наткнуться на труп зарезанного и обобранного обывателя, который обыкновенно отправляли для установления личности убитого в Земский приказ, ведавший московских жителей в полицейском отношении. Поэтому если у кого-нибудь пропадал родственник, то он шел в этот приказ посмотреть, не дожидается ли там погребения пропавший…»
(Строев В. Н. Очерки Государства Московского перед реформами. — Ростов-на-Дону, 1903. — С. 53–54.)
От преступности страдали не только обыватели — она становилась тормозом для зарождавшейся отечественной промышленности. Благодаря дошедшей до нас переписке купцов Панкратьевых мы можем составить представление о многих сторонах каждодневного бытия российской окраины, в том числе о состоянии преступности и мерах борьбы с ней, о коррумпированности (говоря современным языком) местной администрации. Приведем некоторые из фактов [24] Архив гостей Панкратьевых ХVII — начала XVIII в.: в 3 т. — М.; СПб., 2001–2010. — Т. 1. — С. 33, 37 и др.
.
Приказчик Панкратьева Шергин сообщает своему хозяину о методах «конкурентной борьбы», применявшейся людьми другого купца, О. Филатьева. В письмах неоднократно говорится о том, что «воевода на нас гневен, потому что дружен в другую сторону (имеется в виду Филатьев. — Авт. ) и нас в промыслу гораздо теснит». Четвертого декабря 1674 г. зафиксирована первая попытка физической расправы над Шергиным: «… в ночи неведомые хто сожгли гумно с хлебом и овином, и в Усолье приходят Чеуловы (приказчик Филатьева. — Авт. ) люди, у дворов ворота и окна ломают <���…> многие <���…> слышали и видели, как Чеуловы люди с кольем, и c дубинками, и с палками, 16 человек, бегали по Серегове горе, искали меня убить <���…>. И кои люди сторонные видели их с палками и дубинами, записали записку <���…> в съезжую избу». Заявление в съезжую (канцелярия воеводы) было подано и по факту поджога гумна. Однако, как показали дальнейшие события, местными властями (хотя воевода сменился) ничего предпринято не было, а приказчик Филатьева с подручными перешел к разбоям и грабежам в округе. В феврале 1676 г. он «мало не прирезал» Шергина. Последний неоднократно жаловался на Чеула, «бил челом о сыску про многое Феткино насильство», но каждый раз сообщал Панкратьеву, что «сыску не учинили». В начале сентября 1678 г. «для очистки приказу посланы два пристава <���…> и не взяли никого, и мирских людей в понятые привели приставы, и ничего не написав доезду, съехали <���…> за Фетку они стоят».
Потворствуемые безнаказанностью, разбойники распоясались совершенно, запугав всех обывателей. В августе 1684 г. они убили нескольких людей Панкратьева. Шергин вновь писал, что защиты от местных чиновников нет: «…а к розыску б еренские приставы отнюдь не надобные плуты». Невыносимая обстановка — «…а мне грозят <���…> в приказе заколоть или засечь оружием» — даже побудила Шергина обратиться с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Стрельцы, XVII в. С картины А. Д. Литовченко
Конкуренты прибегали и к другим методам давления: «Недруги послали посыльщиков к Москве, чтобы, поклепав меня взять напрасно, заморить в железах, смерть учинить».
Наконец, видимо после вмешательства Панкратьева, в ноябре 1684 г. в Еренское был направлен сыщик с двадцатью стрельцами. Казалось бы, теперь можно было надеяться на восстановление справедливости. Однако воевода, потрафлявший по каким-то соображениям конкуренту, «сыщика ставит ни во что. И стрельцов воевода в тюрьму садит, а сыщик ни оборонить, ни смирить не может», а за преступников «воевода стоит гораздо и чинит сыску большую помешку и нам тесноту».
Вскоре сыщик был нейтрализован более надежным и проверенным способом, взятками («ныне задарен», писал про него Шергин), и расследование начал волокитить. Дело закончилось тем, что разбойник Турчанинов бежал из-под стражи («от стрельцов бежал сперва, сказывали, к воеводе на двор»). Четвертого декабря 1685 г. дело и вовсе прекратили. От провожавших сыщика людей Шергин узнал, что тот по дороге проговорился, «что сыскано, и то хочет утаить, мало де у него доходу было. Говорено было так, что с правого имать с меня и что винные ему давали, и я втрое с правды им говорил, и половину с меня взяли. А другую сторону, как гораздо болши дали им, и они мою дачю ни во что и поставили и вора отпустили, и дело остановили…». «И как спорные дела учинились тому 12 лет, а никакое дело не вершено и оборони не получено. И то стало плутам повадно, для того ис промыслу и выганивают», — с горечью констатировал Шергин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: