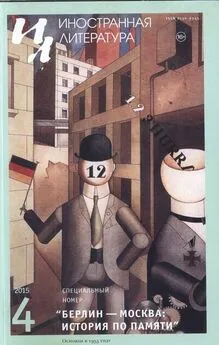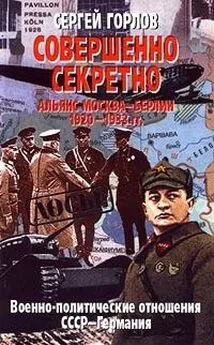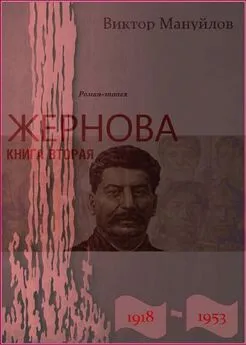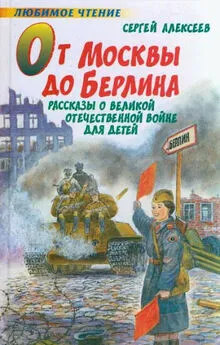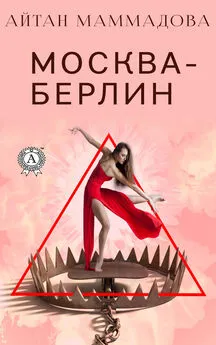Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несебр все еще спал мертвым сном, когда мы уже снова прощались. Ничего, как-нибудь эти трое перебьются. Так где встретимся через две недели? Лучше бы где-то на полпути. Давайте прямо в Софии! Да только как назначить встречу в городе, которого никто из нас не знает? У Тома нашелся туристический проспект по Болгарии, там мы выбрали фотографию памятника русскому царю Александру II, освободителю Болгарии. Том вырвал страничку, разорвал ее пополам, одну половину отдал нам, вторую оставил себе. Уж памятник как-нибудь отыщем! Итак, в воскресенье через две недели, в восемь вечера.
7 июля 1974 года — да, мы хотели проверить: правильная это была идея или нет — перейти границу во время финального матча?
По ухабистым турецким дорогам мы с Буркхардом едем вдоль болгарской границы в сторону Капитан Андреево, КПП на болгарско-турецкой границе. Но сперва останавливаемся в чистом поле, прячем под километражным столбиком поддельные паспорта. Заберем в следующий раз, и тогда уж отвезем домой, ведь мы обещали вернуть их законным владельцам. Попасться с этими паспортами сейчас — нет, такой риск мы себе позволить не можем. Впрочем, риск оказался куда меньше, чем при въезде в Болгарию.
Неподалеку от границы мы постояли, дождавшись начала второго тайма. КПП будто вымер. Пограничники любезны как никогда. 2:1 — на пальцах показывают они нам. «Германия! Брайтнер! Мюллер!» На паспорта наши едва взглянули, и что мы недавно уже въезжали в Турцию и теперь опять едем — вообще не заметили. Значит, возможность и вправду была идеальная…
1700 километров обратно, как можно скорей. Пловдив, София, Ниш, Белград, Загреб, Любляна, Зальцбург, Мюнхен.
Родамин Б
Какое-то время Том, Бернд и Максимилиан еще оставались в Несебре. Но отпускное настроение быстро улетучилось. В конце концов, не за этим они в Болгарию ехали. Месяцами, долгими неделями, потом днями ждали они решающего шага, жили его предчувствием. А тут вместо разрешения всех ожиданий — опять тревожная, томительная неизвестность. То, что они уже вскоре просрочили визы, — еще полбеды. Правда, вести себя теперь приходилось с осторожностью, избегая каких-либо контактов с полицией. Лишь потом Томас узнал, что дней через десять после их отъезда домой к родителям опять нагрянула полиция. Безотказно функционирующая бюрократическая машина отреагировала тревожным сигналом: виза в Болгарию была только на неделю, где ваш сын? Мать и правда понятия не имела, а отец прикинулся: «Вы же знаете нынешнюю молодежь. Родителям ничего не скажут».
Но финансы у ребят и вправду были скудные. Торчать на пляже среди радующихся социалистической дешевизне западногерманских туристов становилось все невыносимее. И они отправились автостопом по Болгарии, наугад, без цели, даже не особо интересуясь жизнью страны и ее достопримечательностями. Однажды переночевали в лесу в какой-то лачуге. В итоге обрели новых попутчиков — блох.
Уже на подъездах к Софии, незадолго до нашей второй встречи, познакомились со славным болгарским парнем. Он пригласил их заходить в гости, когда будут в столице. Они радостно воспользовались приглашением, и их приняли необыкновенно радушно. В подарок они принесли последнее, что у них осталось из валюты — пять западных марок. Зато гостеприимный хозяин остался в твердом убеждении, что ребята и вправду из ФРГ. К чему они оказались не готовы, так это к обильным алкогольным возлияниям, сопутствующим местному гостеприимству. В итоге последняя ночь накануне нашей встречи, которую они провели в парке, стала для всех троих похмельным кошмаром. А тут еще и ливень хлынул стеной. Пришлось спасаться под сводами главного вокзала столицы.
Что касается нас с Буркхардом, то срочная организация «второй попытки» в первую очередь натолкнулась на проблему отсутствия денег. Все наши финансовые резервы, как вырученные от продажи золотых монет, так и собственные сбережения за счет родительских карманных денег и каникулярных студенческих приработков, истощились полностью. Выход оставался один: посвятить во все, по крайней мере, отца. Его всегда интересовало, чем мы живем. И он всегда помогал, насколько это было в его силах. На это я сейчас и рассчитывал, равно как и на то, что узы родства нашей семьи всегда были отцу бесконечно важны.
И я отправился в Швебиш-Гмюнд.
— Мне нужны деньги. — Я с трудом выдавил из себя эти слова. Не то чтобы мне было неприятно или стыдно — в конце концов, это же на «доброе дело». Просто слишком велико, почти непереносимо, было напряжение. Но, осилив первую фразу, я с легкостью рассказал остальное. Отец отнесся к услышанному именно так, как я и ожидал: немедленно и без колебаний согласился помочь. Попросил подробно изложить ему наши соображения и планы, кое о чем расспросил дополнительно, потом кивнул. Да, звучит убедительно, может сработать. Конечно, риск остается, но в принципе решение правильное. Он ни секунды в этом не сомневался. Надо помочь — для него, как и для меня, это разумелось само собой.
Конечно, он тревожился — ведь в этом замешаны оба его старших сына! Но вида не подал. Только когда я, в азарте рассказа, похвастался: «Мы даже знаем, где у болгарских пограничников пистолеты: за спиной, за поясом!» — он резко меня осадил:
— Лучше пять лет за решеткой, чем на всю жизнь калекой остаться!
Впрочем, столь далеко идущих планов и у нас с Буркхардом не было.
Он выдал мне полторы тысячи марок — даже для него сумма немалая. И, разумеется, мы снова могли воспользоваться машиной. Вот только что сказать матери? Вообще ничего. Хотя я знал: странности в моем поведении в последние недели нельзя было не заметить, да и просьба второй раз одолжить автомобиль не могла ее не насторожить. Но мне уже было не до объяснений. «Недели через две ты все узнаешь!»
Обратно в Мюнхен. И снова в гарсоньерке на Августенштрассе закипела работа. Первая задача — раздобыть новые паспорта. Уже и в первый-то раз это было не просто. А теперь пришлось искать новых друзей-приятелей и даже дальних знакомых, огорошивая их столь странной просьбой. Однако никто не отказал. Лишь мой школьный товарищ Болько внезапно раздумал, позвонил и затребовал свой паспорт назад — а я уже чуть было не срезал с него фотографию.
Таким образом, все больше и больше людей оказывались посвящены в нашу затею — но мы с Буркхардом надеялись, что сейчас, за несколько дней до проведения «акции», это уже не так страшно. Однако положение становилось критическим: выяснилось, что паспорт Юргена, проходившего службу в бундесвере, остался дома у его родителей, а паспорт Филиппа, как он с изумлением обнаружил, давно просрочен. Буркхард названивал по телефону и слал телеграммы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: