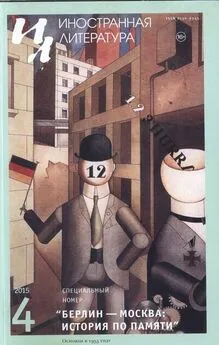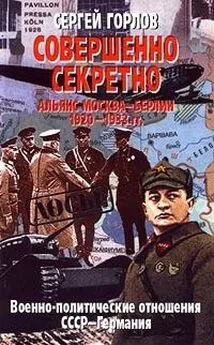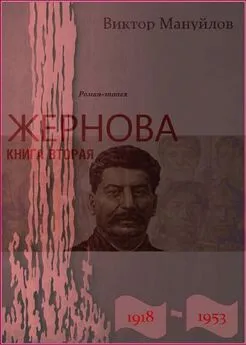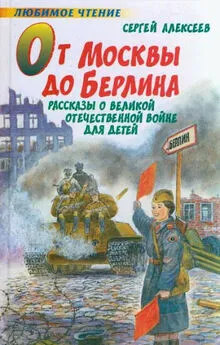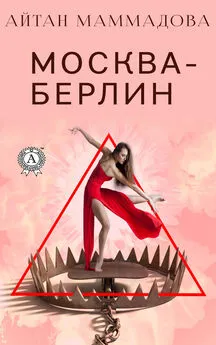Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несерб
22 июня 1974 года я автостопом отправился проверять маршрут, чтобы окончательно уяснить все детали будущего побега. На Троицу Буркхард и Эде Вайг уже провели такую проверку, проехав до самой турецкой границы. Мы старались запомнить все: особенности дорог, их загруженность, а также все, что касалось непосредственно охраны границы — контрольные посты, поведение пограничников, пограничные сооружения…
Из Мюнхена я перекочевал в Австрию, а затем через Югославию добрался до болгарской границы в районе сербского городка Димитровград. На подъезде к КПП я слез с грузовика, водитель которого меня подвозил, и пересек границу пешком. Так принято, когда путешествуешь автостопом: никому из шоферюг неохота нарываться на неприятности из-за незнакомого попутчика.
Стараясь, чтобы это не бросалось в глаза, я внимательно следил за всем, что происходит на границе, насколько тщательно проверяют документы по ту и эту сторону. Особенно, конечно, меня интересовало поведение болгарских пограничников: они проверяли въезжающих гораздо строже, чем югославы на выезде. Процедуры оформления транзитных виз по сравнению с прошлыми разами не изменились. И штамп въездной визы, как я убедился, лишь только представилась возможность его рассмотреть, остался прежним: на одной из страниц где-то в середине паспорта справа внизу он запечатлелся четким оттиском уже хорошо знакомой окраски — сверху голубой, снизу лиловой — и прежней структуры. Над ним пограничник шариковой ручкой написал кириллицей «автостоп» и проставил время пересечения границы.
Пройдя на ту сторону, я заговорил с первым же отъезжающим водителем, и он охотно меня взял…
Но вот, наконец, и турецкая граница, за которую через считаные дни должны уйти наши беглецы. Еще пристальней, чем на въезде в Болгарию, я наблюдал, как проходит контроль. Быстро, деловито, но тщательно. Не все, но некоторые паспорта для дополнительной проверки относили в будку КПП. Что конкретно там с ними делают? Разглядеть нельзя, а чрезмерное любопытство может навлечь подозрения.
Очередь была приличная, что дало мне время подробно изучить расположение пограничных сооружений: где стоят постовые, как расположены заграждения, сколько патрульных прохаживаются вдоль них, как они вооружены.
Оказавшись на турецкой стороне, возле самой границы я обнаружил чайную, где и расположился на тенистой террасе, чтобы наспех зарисовать схему пограничной полосы. Зачем? Я и сам толком не смог бы сказать. Так, на всякий случай. Что-то вроде условного рефлекса: мало ли для чего может пригодиться, исключать ничего нельзя. Хотя в глубине души прекрасно знал: если подделка раскроется, пытаться бежать бесполезно.
Терраса оказалась идеальным наблюдательным пунктом. Я провел там целый день, выпив с десяток стаканов чаю и иногда задремывая, но в основном стараясь ничего не упустить из того, что происходило по обе стороны от КПП и показалось мне достойным внимания.
На обратном пути мне сказочно повезло: дальнобойщики с двух английских фур подхватили меня прямо до Зальцбурга. Зато на немецкой границе меня проверяли строго, как никогда. Однако, так и не найдя при мне гашиша, пограничники вынуждены были довольствоваться моим весьма странным объяснением: да, решил вот за несколько дней проехать через все Балканы.
Тем временем начался чемпионат мира по футболу. Он стартовал 23 июня в Гамбурге матчем «Германия — ГДР», как называли его некоторые болельщики, не особо задумываясь над смыслом сказанного — настолько утвердилось в сознании обывателя западногерманское притязание на безраздельное представительство немецкой нации. Итог этой встречи «национальных сборных» двух немецких государств стал сенсацией: 1:0 в пользу ГДР. «Удар, потрясший основы» — так прокомментировала «Зюддойче цайтунг» победный гол, забитый нападающим сборной ГДР Юргеном Шпарвассером. Тогда еще никто не мог предвидеть, что уже вскоре этот «национальный герой» благополучно останется на Западе.
А в первые дни июня Томас и двое его друзей закончили школу. Они, впрочем, настолько поглощены были мыслями о предстоящем побеге, что не придавали школьным событиям почти никакого значения.
На выпускной вечер в интернат съехались родители. Бернд долго беседовал с отцом Томаса — тот произвел на Берндта крайне сильное впечатление самостоятельностью суждений и твердостью духа. Он, кстати, оказался единственным из родителей, кому сын сказал, что отправляется с друзьями в Болгарию. Вильгельм фон Фрич сразу все понял. Слишком хорошо он знал сына. «Надеюсь, у тебя все получится. Я в свое время из-за матери остался, из-за дома, из-за хозяйства. А ты, сынок, поступай, как считаешь нужным». Вот и все, что он сказал.
Томас никогда больше его не увидит.
От остальных родителей ребята истинную цель своей поездки скрыли. «Едем в Чехословакию!» Туда можно было и без визы.
Когда Максимилиан выходил из дома, родители, как всегда в таких случаях, махали ему вслед из окна их квартиры на пятом этаже. Максимилиан помахал в ответ. А потом, уже дойдя до угла, вдруг кинулся обратно и как-то неловко, резко помахал еще раз. Отец сразу почуял неладное. «Ты его больше не увидишь!» — сказал Отто Рётиг жене. Вместе они прошли в комнату сына. Но там все было как всегда, ничего подозрительного. И даже водительское удостоверение сына лежало на столе на видном месте. Отто Рётига это отчасти успокоило. Потрудись он его раскрыть, он бы понял, что это всего лишь пластиковая обложка, само удостоверение уже хранилось в Берлине у приятеля, который, в случае успешного побега, переправил бы его Максимилиану на Запад.
И вот, наконец, все трое сидят в поезде. Вовсе запретить поездки в братские социалистические страны власти никак не могли, однако Болгария, особенно если туда надумали вместе отправиться трое ребят, только что окончивших школу, — как-то это слишком подозрительно. Именно поэтому их проверяли с особой, даже для гэдээровских порядков, чрезмерной тщательностью. Но вот, казалось бы, все уже позади. Поезд вот-вот тронется по направлению к чешской границе. И вдруг: «А вас попрошу выйти!» Резкий, пронзительный голос пограничницы, решившей показать, кто здесь хозяин. Ребятам пришлось снова распаковывать все вещи, снова давать объяснения, особенно насчет географических карт, которые обнаружились в их багаже. Но придраться вроде все равно не к чему. И вдруг: «А где ваши обратные билеты?» Непростительная, детская промашка! По счастью, отговорка все же нашлась: «Да мы еще не знаем, откуда обратно поедем. Мы же автостопом хотим по Болгарии, по Венгрии, с ровесниками познакомиться, посмотреть, как в других социалистических странах люди живут». Пограничникам вроде бы и крыть нечем, но они все равно сомневаются. Однако улик, даже косвенных, против ребят никаких, а задерживать их только на основании подозрений — таких полномочий у пограничников нет. Вот так, за два дня до нашей встречи на черноморском побережье, ребята въехали в Болгарию. Виза, полученная ими при въезде, заканчивалась через неделю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: