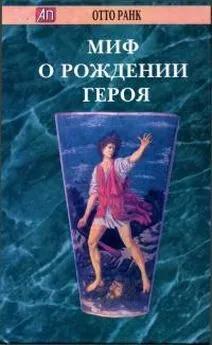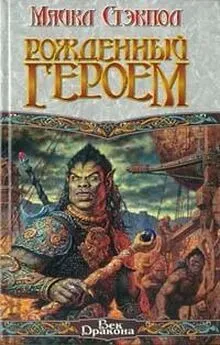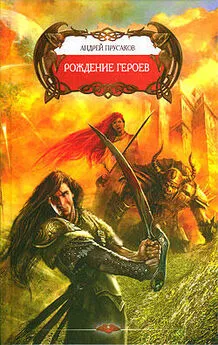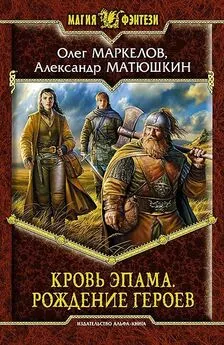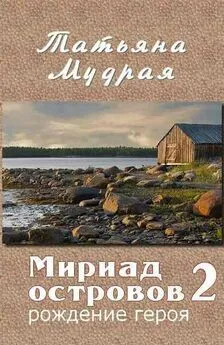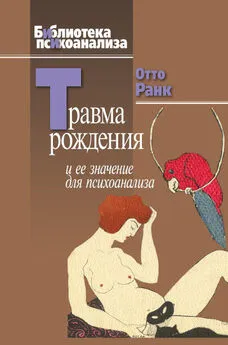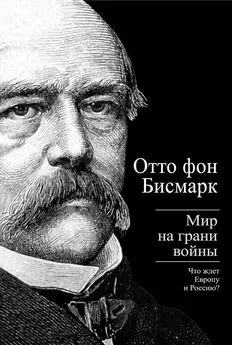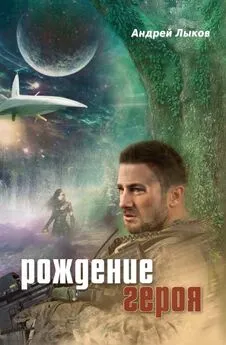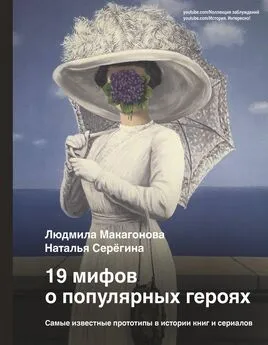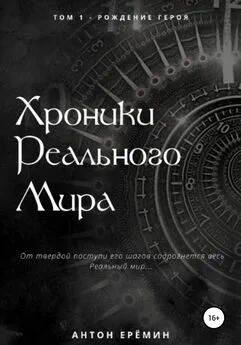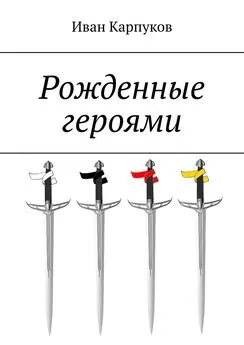Отто Ранк - Миф о рождении героя
- Название:Миф о рождении героя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Отто Ранк - Миф о рождении героя краткое содержание
Универсальные принципы мифотворчества, коренящиеся в общечеловеческих свойствах психики, анализируются на основе обширного материала, охватывающего мифы, легенды, предания древнего Египта, Вавилона, греко-римской античности, европейского Средневековья и Востока.
Миф о рождении героя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так проявляется в истории этики беспрерывная борьба между эгоистическими склонностями и стремлением их победить; и то и другое обусловлено индивидуальными задатками и более или менее удавшимся вытеснением определенных инстинктов. Так же обстоит дело с выдвигаемым во многих этических системах требованием полного или частичного отказа от половых сношений и с многочисленными ограничениями сексуальных наслаждений (сексуальная этика'
Добродетели, таким образом, невозможно научиться; каждый неизбежно “этичен” постольку, поскольку его процесса вытеснения достаточно для создании и удержания реакции, и требования отдельных философов имеют значение и ценность только для них самих и для некоторого числа подобных им натур. Отсюда следует, что при таких обстоятельствах и необычайно важная проблема кажущейся свободы воли нуждается в новом рассмотрении в смысле психоаналитического миросозерцания.
Если мы попытаемся выяснить с нашей точки зрения генезис этики, то мы должны исходить из того положения, что сущность этики заключается в добровольном отказе от удовлетворения страстей. Старые табу — запреты являются прямыми предшественниками этических норм; резкое отличие лежит в мотивах. Ограничения табу исходят, поскольку имеются сознательные мотивы, из эгоистических основ — из боязни перед грозящим преступнику злом. Бес-
Cp. Christian v.Ehrenfels: Sexnalethin (Grenzfragen, N 56), Wiesbaden,
1908.
сознательные мотивы — сохранение тех учреждений, в особенности примитивной семьи, которым грозит опасностью соблазн, устраняемый табу. Сам соблазн вытесняется, вместе с ним удаляются из сферы сознания и связанные с ним мотивы. Так как благополучие отдельной личности тесно связано с благополучием рода, то социальные мотивы сводятся снова к эгоистическим. С другой стороны, сказывается определенное влияние и либидо, отказ в душевной жизни дает ему устойчивость, придавая ему обходным путем характер наслаждения. Такими, большей частью, вторичными мотивами, исходящими из либидо, являются, например, воздержание и уверенность в приобретении большего наслаждения благодаря вытеснению любви к личности, чувства которой должны быть оберегаемы отказом.
В противоположность этому, в этике эгоизм как мотив, например, как страх перед наказанием, не должен играть никакой роли. Он подавляется, у святого вытесняется даже из сознания, как вытесняются асоциальные желания при табу. На первый план, в качестве единственного и вполне достаточного основания, выдвигается социальный мотив, ставший ныне, когда семья не совпадает более с государством и человечеством, совершено бесцветным. В науке образовалось два главных мнения об источниках этого социального долга; одно из них, представленное Руссо, ищет волюнтаристского детерминизма в “изначальном добре человеческой природы”, тогда как другое, интеллектуальное, свое наиболее яркое выражение получило в категорическом императиве Канта. Мы уже указывали на бессознательные мотивы этики — образование реакции вытесненным инстинктом. Главной тенденцией запретов табу было сделать запрещенное физически невозможным, тогда как влияние этики ограничивается психической энергией.
Наиболее отдалено от прямого влияния бессознательного право , предоставляющее наименьшее место удовлетворению страстей; в основе права лежит деловая и логическая целесообразность. В своей чистой форме право совершенно отказывается от влияния на чувства членов общины: его формула гласит не “ты должен” этике, а трезвое “если ты сделаешь то-то и то-то, то сообщество причинит тебе определенное зло или лишит тебя определенного преимущества”, причем решение предоставляется практическим соображениям отдельного лица. Тем самым право приближается более к табу, чем к этике, с той разницей, что табу грозит неопределенным злом с неопределенной стороны. Если это неопределенное наказание не выполнялось, оно возвещалось со стороны сообщества, и так создавался переход от табу к закону.
Мы оставляем совершенно в стороне частное право и бросим,беглый взгляд только на уголовное право, которое проникнуто религиозными и этическими воззрениями и потому ближе к бессознательной душевной жизни. Эта близость проявляется и внешне в виде той многообразной символики, которой было снабжено у всех народов судопроизводство и исполнение наказания*
Даже в наше время, устраняющее ненужную для практических целей символику, кое-что из прежних символов удержалось в уголовном процессе. Значение этой символики И. Шторфер** удачно исследовал на одном случае, при наказании отцеубийцы в Древнем Риме. Ему удалось доказать, что эта символика была проявлением общего бессознательного предположения, что мотивом для отцеубийства всегда является стремление к монопольному владению матерью. О такой гипотетической форме участия бессознательного при наказании можно конечно говорить только в переносном смысле. В действительности речь идет о том, что каждый бессознательно переносится в душевную ситуацию преступника, отождествляет себя с ним. То преступление, которое наказывалось обществом, совершалось, таким образом, бессознательно каждым из его членов. Наказание дает затем возможность совершать под социальной санкцией запрещенную в иных случаях жестокость. Желание воздать преступнику тем же, что он совершил и что желало бессознательное остальных (ius talionis ), следует
Мах Schlesinger: Die Geschichte des Symbols, Berlin, 1912, III Buch. Kap.2 (там же указана и литература: с.267).
I.Storfer: Zur Sonderstellung der Vatermordes, Wienn; Leipzig, 1911.
рассматривать как реальное выполнение разбуженного преступлением инстинкта.
Преступник, совершающий такие поступки, от которых другие уже отказались, представляет собой более низкую ступень господства над своими инстинктами, с точки зрения современной культуры — явление регресса в более примитивную эпоху. У подчеркнутого Ломброзо антропологического сходства преступника с дикарем имеется и психологическая параллель, распространяющаяся и на невротика, который тоже, — хотя и в другой форме, — в силу неудавшегося вытеснения инстинктов, расходится с общественными установками.
Криминальная психология до сих пор еще мало пользовалась выводами психоаналитического метода* Путь, по которому можно установить связь с бессознательным, был продолжен экспериментом со свободными ассоциациями. Форма эксперимента выработана швейцарской школой психоанализа (Юнг и др.); при этом выяснилось, что чувства и переживания лица, подвергающегося опыту, могут быть выявлены при помощи реакции на ряд подобранных слов, так как для преступника то, что он совершил, относится к сильно окрашенным чувством комплексам, то при помощи этих реакций имеется возможность установить картину преступления и уличить преступника"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: