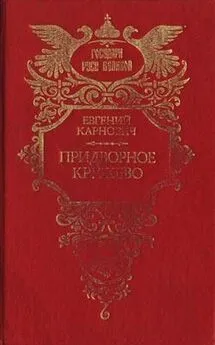Норберт Элиас - Придворное общество
- Название:Придворное общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Языки славянской культуры»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-94457-034-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Норберт Элиас - Придворное общество краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историко-социологическими сюжетами.
На переплете: иллюстрации из книги А. Дюма «Людовик XIV и его век».
Придворное общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Встречаясь с подобными феноменами, часто довольствуются их индивидуально-психологическим объяснением, указывая, скажем, на особенно сильное «стремление к собственной значимости» у конкретных людей. Но объяснения такого типа недостаточны в данном случае по самой их природе. В их основании лежит предположение, что именно в этом обществе случайным образом встретилось довольно много индивидов, которые были от природы наделены исключительно сильным стремлением к собственной значимости или какими-нибудь другими индивидуальными свойствами, проявившимися в специфическом характере придворной конкуренции за статус и престиж. Это представляет собою одну из множества попыток объяснить нечто необъясненное через нечто необъяснимое.
На более твердую почву мы вступаем, если исходим не из множества отдельных индивидов, а из общности, которую эти индивиды составляют вместе. Имея ее в виду, нетрудно понять особую взвешенность линии поведения, точный расчет жестов, постоянную нюансировку в словах — иными словами, специфическую форму рациональности, ставшую для членов этого общества второй натурой, которой они умели пользоваться изящно и без труда. В самом деле, эта форма рациональности, как и специфический контроль за аффектами, требовавшийся для такого изящества, были незаменимы как инструменты в постоянной конкуренции за статус и престиж в придворном обществе.
Мы, сегодняшние, задаемся вопросом: почему эти люди были столь зависимы от несущественных деталей, почему они были столь чувствительны к тому, что они считали «неправильным поведением» другого, к малейшему нарушению или угрозе для какой-нибудь незначительной привилегии, и, в самом общем смысле, к тому, что мы сегодня легко принимаем за формальность? Но этот вопрос, сама наша готовность считать формальностью то, что для придворных людей той эпохи было главным, уже возникает из структуры нашего социального существования.
Мы в наше время, до известной степени, можем позволить себе считать реальные социальные различия между людьми сравнительно неумышленно прикрытыми или, по меньшей мере, двусмысленными. Причина в том, что опосредованное денежными и профессиональными возможностями отношение человека к человеку и связанная с ним дифференциация остаются реальной и действенной почти полностью однозначно, даже если не выражаются вполне однозначно в манере публичного поведения.
Поэтому в рамках сегодняшней структуры общества размеры денежного состояния, которым располагает человек, не обязательно должны и будут обнаруживаться однозначно. В ходе функциональной демократизации сила менее состоятельных слоев по сравнению с силой более состоятельных стала несколько больше, чем в эпоху Людовика XIV. Однако в придворном обществе социальная реальность заключалась именно в ранге и авторитете, который признавало за человеком его общество, и во главе его — король. Человек, не котировавшийся или невысоко котировавшийся в общественном мнении, был более или менее потерянным или погибшим человеком также и в своем собственном сознании. Возможность, к примеру, идти впереди другого или сидеть там, где он должен был стоять, а кроме того, глубина приветственного поклона, любезность приема у других и т. п. были вовсе не формальностью. Таковой они бывают лишь там, где реальным содержанием социального существования считаются денежные или профессиональные функции. Но в изучаемой фигурации они были непосредственными проявлениями социального существования, а именно того места, которое человек занимал в настоящий момент в иерархии придворного общества. Восхождение или падение в этой иерархии означало для придворного человека столько же, сколько значит для купца прибыль или убыток в его торговле. А беспокойство придворного о грозящем понижении его ранга и его престижа было не меньше, чем беспокойство купца о грозящей ему утрате капитала, чем беспокойство менеджера или чиновника о грозящей потере карьерных возможностей.
Если мы пойдем на шаг дальше, то увидим следующие взаимосвязи. В социальном поле, в котором построение социального существования на денежных возможностях и профессиональных функциях стало преобладающей формой поиска средств к существованию, общество, в которое входит в данный момент индивид, является для него относительно заменимым. Уважение и оценка в глазах других людей, с которыми он имеет дело по работе, всегда играют конечно же более или менее значительную роль, но их влияния все же всегда можно до известной степени избежать. Профессия и деньги — сравнительно мобильные источники средств к существованию. Они позволяют — по крайней мере, в буржуазном обществе — перемещаться в пространстве. Они не привязаны к некоторому определенному местоположению.
Совершенно иначе обстояло дело с источниками средств существования при дворе. Специфические черты, характерные до известной степени для всякого «хорошего общества», обнаруживаются здесь в своем самом полном проявлении. Во всяком «хорошем обществе», т. е. во всяком обществе с тенденцией к обособлению от окружающего социального поля — а значит, например, во всяком аристократическом, да и во всяком патрицианском обществе, — сама эта обособленность, принадлежность к данному «хорошему обществу» составляет одну из конституирующих основ личной идентичности, а равно и социального существования. Это проявляется в различной степени в зависимости от сплоченности самого «хорошего общества». Связующая сила слабее, если оно выделяется из буржуазного поля, и сильнее, если речь идет о придворно-аристократическом обществе. Но закономерности структуры «хорошего общества», формирование «сословного этоса» — с различиями в степени и с разнообразными вариациями — заметны и в буржуазном, и в придворном вариантах. Если, к примеру, мы рассмотрим «хорошее общество» высшего дворянства, то мы увидим, в какой степени каждый его член зависит от мнения других принадлежащих к нему людей. Он, невзирая на свой дворянский титул, фактически лишь до тех пор принадлежит к соответствующему «хорошему обществу», пока другие так полагают , а именно рассматривают его как принадлежащего к обществу. Иными словами, общественное мнение имеет совершенно иные значение и функцию, чем в любом обширном буржуазном обществе. Оно имеет решающее значение как источник существования. Примечательным выражением для этого значения и этой функции общественного мнения во всяком «хорошем обществе» является понятие «чести» и его производные. Сегодня в буржуазном обществе оно претерпело существенную трансформацию сообразно с его условиями и наполнилось новым содержанием. Первоначально, во всяком случае, «честь» обозначала принадлежность к «хорошему обществу». Человек обладал честью до тех пор, пока, по «мнению» соответствующего общества, а тем самым и в собственном сознании, он считался принадлежащим к нему. Утратить честь значило утратить свою принадлежность к своему «хорошему обществу». Ее утрачивали по приговору общественного мнения в этих обычно довольно замкнутых кругах, а иногда по приговору специально делегированных представителей этих кругов в форме судов чести. Они выносили приговор с позиций специфического дворянского этоса, в центре которого находилось поддержание всего того, что традиционно служило для соблюдения дистанции по отношению к низшим слоям общества, а тем самым «благородства» как самоценности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: