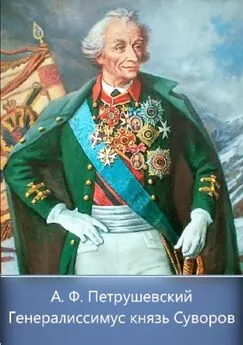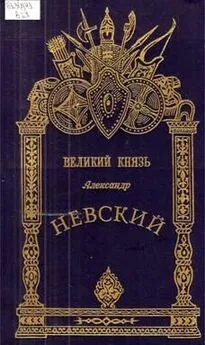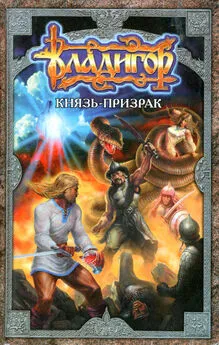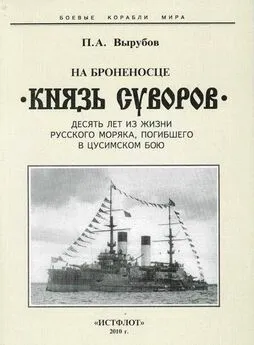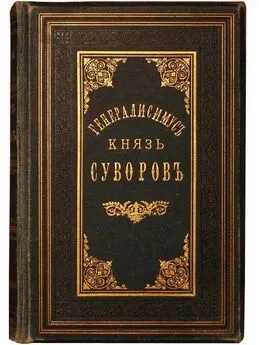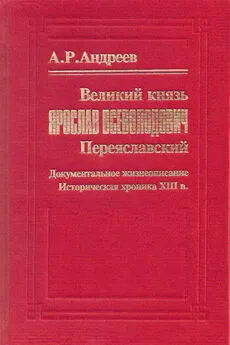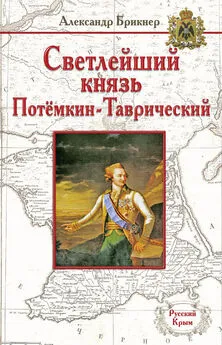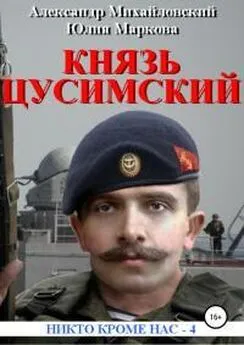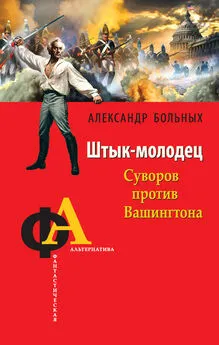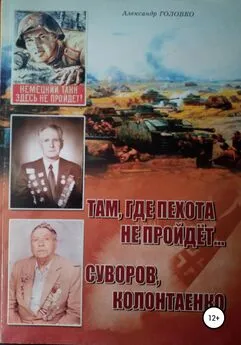Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов
- Название:Генералиссимус князь Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1884
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов краткое содержание
Однако, книга остается малоизвестной для широкой публики, и главная причина этого — большой объем. Полторы тысячи страниц, нагруженных ссылками, приложениями и пр., что необходимо для учёных-историков, мешает восприятию текста для рядового читателя. Здесь убраны многочисленные ссылки, приложения, примечания, библиография, полемика с давно забытыми оппонентами и пр., что при желании всегда можно посмотреть в полном издании.
Кроме того, авторский текст переведён на современный язык и местами несколько сокращён. К примеру, предложения типа:
«Храбрые, отважные русские воины предприняли энергические наступательные действия»
теперь выглядят так:
«Русские энергично атаковали».
Но к авторскому тексту не добавлено ни слова.
Генералиссимус князь Суворов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Войска получили громадную добычу: в донесении Екатерине Потемкин называет ее "чрезвычайной"; в письме Кобургу Суворов говорит, что она превышала миллион рублей. В Измаил были перевезены купеческие склады из крепостей, капитулировавших раньше, стало быть условия для грабежа оказались самыми благодарными. Сколько же было испорчено и уничтожено, если получено более, чем на миллион рублей? Солдаты не знали что делать с награбленным добром, продавая его всякому за бесценок. Они сорвали с древок знамена и щеголяли, опоясанные ими; часть этих знамен была от них отобрана, но остальные пропали и в счет трофеев не вошли. К добыче надо отнести и неизвестное число пленных обоего пола и разных возрастов, которых с разрешения Суворова разобрали офицеры, обязавшись подписками в порядочном их содержании и человеколюбивом обращении. Сам Суворов по обыкновению ни до чего из добытого грабежом не коснулся, отказавшись от всех поднесенных ему вещей. Даже когда привели к нему, на память о славном дне, великолепного, в богатом уборе коня, он отказался и от коня, сказав: "донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду". Один из генералов заметил, что теперь тяжело будет Суворовскому коню везти на себе вновь добытые лавры; Суворов отвечал: "донской конь всегда выносил меня и мое счастие". Недаром же солдаты говорили: "наш Суворов в победах и во всем с нами в паю, только не в добыче".
Измаильский штурм отличался нечеловеческим упорством и яростью турок: после переговоров они знали, что им пощады не будет. Но это упорство безнадежного отчаяния, в котором принимали участие даже вооруженные женщины, могло быть сломлено только крайним напряжением энергии атаковавших, высшей степенью возбуждения их духа. Храбрость русских войск под Измаилом дошла до совершенного отрицания чувства самосохранения. Офицеры, главные начальники были впереди, бились как рядовые, ранены и убиты в огромном числе, а убитые до того изувечены страшными ранами, что многих нельзя было распознать. Солдаты рвались за офицерами, как на состязании; десять часов непрекращающейся опасности, нравственного возбуждения и физических напряжений не умалили их энергии, не уменьшили сил. Многие из участников штурма потом говорили, что глядя при дневном свете и в спокойном состоянии на те места, где они взбирались и спускались ночью, они не верили своим глазам и едва ли рискнули бы повторить это днем.
В диспозиции указано было все существенное, начиная от состава колонн и кончая числом фашин и длиною лестниц. Определено число стрелков при колонне, их место и назначение, так же как и рабочих. Назначены частные и общие резервы, их места и условия употребления. Указаны направления колонн, предел их распространения по крепостной ограде и проч. Эти наставления были хорошо поняты, внимательно и толково исполнены. Нельзя не подивиться, что в разгаре боя и грабежа в городе не произошло ни одного пожара. Особого внимания заслуживают резервы: они не раз выводили штурмовые колонны из трудных обстоятельств; благодаря резервам первая, ночная часть действий была кончена скоро и с успехом.
Таким образом, успех измаильского штурма достигнут благодаря сочетанию изумительной нравственной силы русских войск с прекрасно составленным и исполненным планом действий. Штурм этот по размерам и значению предприятия, по неравномерности сил обеих сторон, по сложности и трудности исполнения, имеет мало равных примеров в военной истории. Здесь не крепость взята, а истреблена неприятельская армия, засевшая в крепости. Суворов, не останавливавшийся ни перед каким смелым предприятием, смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. Года два спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта: "Можно взять эту крепость штурмом?" Адъютант отвечал: "Какой крепости нельзя взять, если взят Измаил?" Суворов задумался и, после некоторого молчания, заметил: "На такой штурм, как измаильский, можно пускаться один раз в жизни."
Почти так же, как Суворов, смотрела на измаильский штурм и Екатерина. Рискуя оскорбить Потемкина в его очаковских воспоминаниях, она писала ему, что "почитает измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли где в истории находящееся". В мнении своем она руководилась между прочим тем оцепеняющим впечатлением, которое произвели измаильские известия на врагов и недоброжелателей России. И не мудрено: путь к Балканам лежал теперь перед русскими открытый, и на турок напала сильнейшая паника. Систовские конференции прервались; из Мачина все стали разбегаться, из Бабадага также; в Браилове, несмотря на 12000-ный гарнизон, жители просили пашу не медлить сдачей, как только русские появятся. В Букаресте просто не верили возможности измаильского погрома, несмотря ни на какие подтверждения; содержавшиеся в Богоявленске пленные турки пришли в такой ужас, что пристав их счел долгом довести об этом Потемкину. Изумление и восторг охватили русское общество; русские поэты, начиная с Державина и кончая Петровым, выразили общее настроение в стихах; Суворов был засыпан поздравительными письмами и посланиями, летевшими к нему со всех сторон. Принц де Линь, сын, отличившийся и раненый под Измаилом, величал его "идолом всех военных"; принц де Линь, отец, благодаря его за внимание к сыну, писал, что графов было бы не много, если бы каждый из них сделал сотую долю того, что Суворов, и что дружба такого человека приносит честь и есть патент достоинства. Принц Кобургский тоже приветствовал своего бывшего сотоварища с обычной искренностью.
Суворов оставался в Измаиле 9-10 дней. Он писал Потемкину, что предпринимать теперь что-либо серьезное в Браилове поздно, надо усилить войска на Серете, и ему необходимо туда спешить. Он не жалеет комплиментов, благодарит Потемкина от имени войск за его благосклонное письмо, уверяет, что все готовы за него умереть, что "желал бы коснуться его мышцы и в душе обнимает его колени". И как скоро все это изменилось!
Воротившись на короткое время в Галац, Суворов поехал затем в Яссы. Потемкин приготовился к торжественному приему измаильского победителя; были расставлены по улицам сигнальщики; адъютанту приказано не отходить от окна, чтобы своевременно известить Потемкина. Проведал ли при эти приготовления Суворов, или так уж пришлось, но он въехал в Яссы ночью, никем не замеченный, и отправился на ночлег к старому своему знакомому, полицмейстеру, которого просил не разглашать о его приезде. На следующий день утром Суворов надел парадный мундир, сел в старинную колымагу своего хозяина и поехал к Потемкину. Лошади были в шорах, кучер в широком плаще с длинным бичом, на запятках лакей в жупане с широкими рукавами. Никто не признавал обстановке Суворова; в таких экипажах езжали обыкновенно архиереи и иные духовные лица. Потемкинский адъютант не дался однако в обман и, когда подъезжала карета, доложил Потемкину. Потемкин поспешил на лестницу, но едва успел спуститься несколько ступеней, как Суворов взбежал наверх в несколько прыжков и очутился около Потемкина, они обнялись и несколько раз поцеловались. "Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич", спросил Потемкин, в полном удовольствии от свидания. "Ничем, князь", отвечал Суворов раздражительно: "я не купец и не торговаться сюда приехал; кроме Бога и Государыни никто меня наградить не может". Потемкин побледнел, повернулся и пошел в зал; Суворов за ним. Здесь он подал строевой рапорт, Потемкин принял холодно; оба рядом походили по залу, не в состоянии будучи выжать из себя ни слова, затем раскланялись и разошлись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: