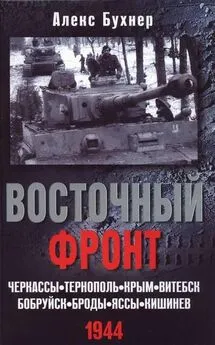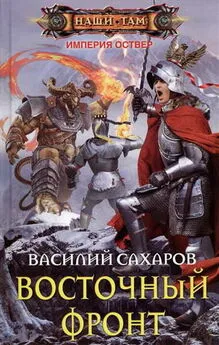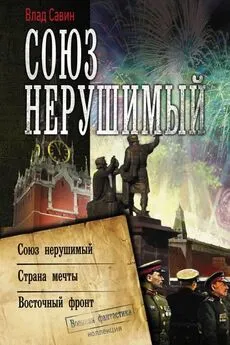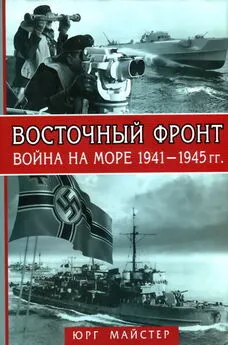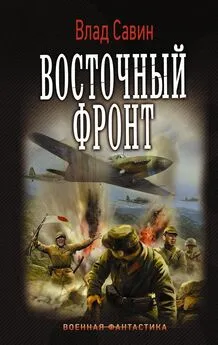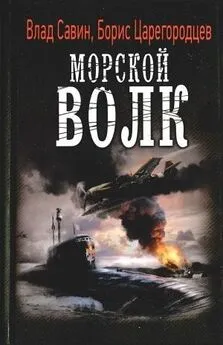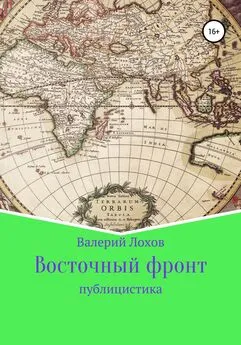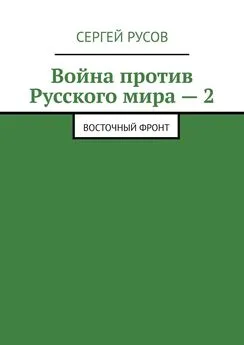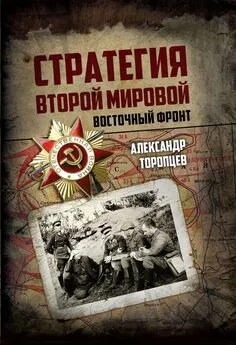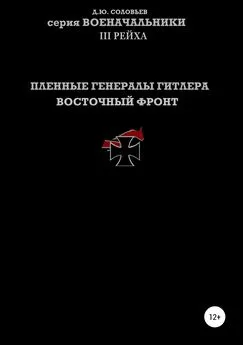Готхард Хейнрици - Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици]
- Название:Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Готхард Хейнрици - Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици] краткое содержание
Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
BArch. N 265/155. Bl. 120–123f. Ms.
Пишу из козельских казарм [152]. Я спокойно могу это сообщить, учитывая сегодняшние сроки доставки почты: пройдут недели, прежде чем письмо до вас дойдет. После того как сопротивление красных войск западнее и южнее Москвы было сломлено, на защиту России встала природа. Несколько дней назад начавшиеся в конце сентября постоянные заморозки в -3–8° с легким снегом превратились в дождь, что сильно ограничило нашу маневренность. К примеру, грузовику понадобилось 36 часов, чтобы преодолеть 35 километров. Все были в восторге, что он вообще доехал.
Большая часть колонн увязла в непролазной грязи, в болоте, в дорожных колеях, рытвины от снарядов в которых достигают полуметра и заполнены водой. Грузовики, и без того еле ехавшие, теперь сломались полностью (запчасти достать невозможно). Бензин, хлеб, овес — ничего не доезжает. Конные повозки тоже застряли, орудия невозможно доставить, весь личный состав, пехота или кто угодно, больше толкает машины, чем сражается. Дороги усеяны трупами лошадей и сломанными грузовиками. Снова и снова слышны причитания: так не может продолжаться! И всё же придется продолжать, мы должны двигаться вперед, хотя бы медленно.
Повозки с лошадьми, спасавшие нас в [Первую] мировую войну, снова стали тем средством передвижения, на котором всё держится. Но покрыть 100 или 120 километров к станции снабжения и назад на этих лошадях — проблема практически неразрешимая, а значит, мы стоим перед лицом непреодолимых трудностей. Так что мы вполне рады, что со вчерашнего дня опять похолодало и стало ветренее. Надеемся, что хотя бы дороги подсушатся. Черчилль может занести себе в актив то, что мы потеряли 4 недели, ввязавшись в сербскую кампанию этой весной. Если бы у нас был этот месяц, мы бы уже были в Москве.
По контрасту с ландшафтом, который мы наблюдали прежде, местность под Калугой, куда мы только что прибыли, довольно переменчива и покрыта холмами высотой до 60 метров. Русла рек и ручьев неподвижные, глубокие и являются причиной крутых склонов. Почва — тяжелый глинозем, частично чернозем, при дожде превращается в мыло. Население выглядит как эскимосы. Они носят валенки или обувь из лыка, обматывая икры войлоком, прячут тело под старомодными плотными коричневыми овчинными тулупами (защищает от осколков бомб), голову кутают в плотные шали, так что видны только глаза и нос. Свиньи и куры делят с ними их жалкое жилище. Спят они на печке. В избах полно клопов и вшей. «Ну и унылая же география!» — могу я воскликнуть хором с моим капитаном Г. из Вюртемберга.
Этот народ нельзя мерить нашими мерками! Я думаю, к нему можно относиться действительно сообразно лишь в том случае, если приплывешь сюда на корабле как на чужой континент, причем, едва подняв якорь в нашем порту, нужно порвать всякую связь с тем, что нам привычно. Но мы–то медленно ползем пешком! Снова и снова мне приходится спрашивать нашего нового переводчика [Бейтельшпахера], сына одесского фабриканта, а сейчас приват–доцента в Кёнигсберге: неужели в этой стране не было никого, кто противостоял бы этой инертности, этому равнодушию? И почему не было? И каждый раз слышу в ответ: русский совершенно пассивен, он делает, что ему приказывают. Когда его направляют и им управляют, он работает охотно и отменно. Но по собственному почину, сам по себе, он не предпринимает ничего, свыкается с плачевнейшими условиями жизни и не чувствует малейшей потребности их изменить. Он лучше будет голодать и нищенствовать, чем, проявляя предприимчивость, позаботится о себе и возьмется за дело. Он — лишь бы только не работать — довольствуется одной парой обуви для всей семьи, которая при необходимости переходит от одного к другому. Зимой он слезает с печки лишь затем, чтобы прокопать тропу от дома к колодцу через полутораметровые сугробы. На этом его жажда свершений иссякает.
А ведь из этой земли можно добыть так бесконечно много. Сколько неиспользованной земли стоит без дела. Как малонаселены эти бесконечные просторы. Сколь не- ухожены и бесхозны леса. Лесопосадками тут вообще не занимаются. При необходимости рубят лес на дрова, а в том, вырастет ли на месте срубленного новый лес, — полагаются на волю природы. Тогда, сознавая сущность русского человека, спрашиваешь дальше: что же будет с этой страной в будущем? Верите ли вы в то, что русские вследствие военных поражений свергнут существующую систему? Получаешь ответ: нет, сами они не в состоянии это сделать. Нет никого, кто сподвиг бы их на это. Нам ничего не остается, кроме как создать им правительство на оккупированных территориях. Сами по себе они не любят большевизм. Слишком многие потеряли из–за большевиков своих родственников. Все живут в страхе и под постоянным гнетом слежки. Кроме того, крестьяне хотят, чтобы им вернули отобранную у них землю. Старики тоскуют по церкви (я сам видел в Чернигове, как одна старушка на коленях благодарила нас, что может снова посещать церковную службу). Остальным их экономическое положение кажется чересчур плохим. То есть друзей у большевизма в этой стране нет. И всё же изничтожить его своими силами Россия уже не может. — Но если нам придется создать на оккупированных территориях правительство, то что будет на неоккупированных? На этот вопрос ответа нет. Всё кончается известным пожиманием плеч и словом Nitschewo. Никто не знает, как всё устроится. В ставке фюрера, вероятно, есть планы на этот счет. У меня самого ясной картины будущего нет.
Русскую армию на среднем и южном участках фронта можно назвать практически разбитой. После того как в битвах у Киева и на Азовском море разобрались с Буденным [153], похожее произошло сейчас в центре, в октябрьских сражениях под Брянском и Вязьмой. […]
В своем поведении в ходе этих боев русский совершенно непредсказуем. Только что он сражался отважно как никогда — и вдруг снова разбредается по лесам и позволяет себя пленить. Я наталкивался на невооруженные русские отряды в 10–20 человек, которые хотели узнать только, куда же идти, чтобы сдаться в плен, и которые радостно благодарили, когда им указывали на ближайший город — Жиздру. Другие, желая сдаться, с поднятыми руками выбегали из леса, когда видели немца. Однажды они помогали нам, когда мы разворачивали трофейную батарею, чтобы стрелять по их же товарищам. Сотни из них работают возницами или шоферами в наших дивизиях. Почти во всех подразделениях русские солдаты, немного понимающие немецкий, используются как переводчики.
Недавно два лейтенанта–кавалериста во главе своего взвода в идеальном порядке и в полном вооружении перешли к нам и привезли две машины. Они сказали, что на русской стороне полный хаос, вся цепочка командования и система снабжения не работают (они ничего не ели четыре дня), что за приказом следует отменяющий его приказ, так что они больше не видят смысла сражаться. Сегодня к нам перешел капитан верхом на лошади и сказал, что недисциплинированность и хаос достигли такого масштаба, что он решил покинуть эту шайку–лейку. Значит, на той стороне действительно начинается кризис, большие потери в живой силе и снаряжении начинают давать о себе знать, что заставляет русских посылать на фронт необученных новобранцев, у которых нет ни солдатской воли, ни воспитания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Готхард Хейнрици - Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици]](/books/1075792/gothard-hejnrici-zametki-o-vojne-na-unichtozhenie-v.webp)