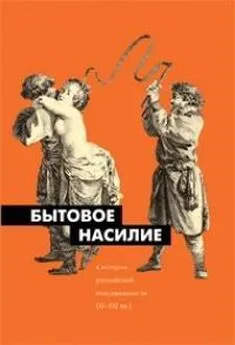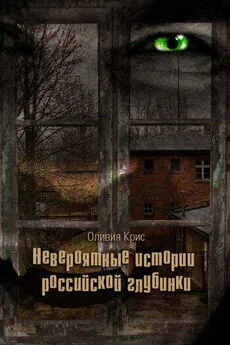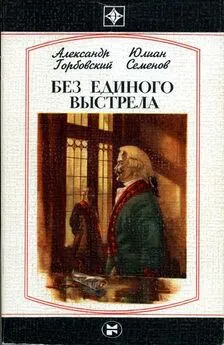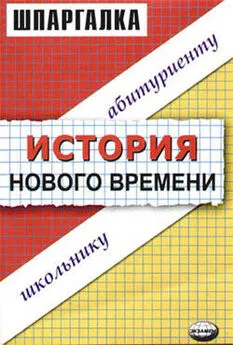Наталья Пушкарева - Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.)
- Название:Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Пушкарева - Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.) краткое содержание
Издание предназначено для специалистов в области социальных и гуманитарных наук и людей, изучающих эту проблему.
Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дяденька, я не буду! — услышал полковник. — Голубчичск, я не буду! А-я-я-я-я-й! Родненький, не буду!
Странные звуки продолжались минуты две... Засим все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полусхтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназисте заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул пожкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери...
Что это у тебя сейчас было? — спросил Финтифлеев.
Да вот, сестра просила в письме посечь мальчишку... Двойку из греческого получил...
А ты чем порешь?
Ремнем... самое лучшее... Ну, так вот... па чем я остановился?» [607]
Чеховский рассказ — злая сатира на либеральных интеллигентов,
которые болтают о высоких материях, а в перерыве готовы высечь беззащитного ребенка. Но меня интересует не оценка, а сама возможность оказания подобной родственной услуги.
Сегодня, как и в прошлом, за проблемами повседневности часто скрывается идеология. Недаром вопрос вызывает столь яростные споры. По мнению либералов-заиадников, телесные наказания — закамуфлированная форма насилия над детьми, которое должно быть законодательно запрещено не только в школе, но и в семье. Коммунисты и православные фундаменталисты (как и но многим другим вопросам, их позиции очень близки) с этим категорически не согласны. Признавая необходимость чадолюбия и заботы о детях, они возражают против ограничения родительской власти, одним из ее атрибутов являются физические наказания. Тамбовский учитель-коммунист на страницах «Советской России» ратует даже за публичные порки детей: «...Публичная порка. Да-да, на специально оборудованном месте, специальным предметом и специальным человеком. Уверяю вас, воздействие колоссальное... Физические наказания в семье должны быть официально разрешены». За что? Например, «за раннее начало половой жизни». [608]
В оценке эффективности конкретных физических наказаний их защитники зачастую расходятся. Светило православной педагогики Татьяна Шишова, которая называет либерализацию взглядов родителей на проблему наказаний «скарлатиной», призывает разграничивать безобидный шлепок и наказание ремнем. «Это по-настоящему больно и отрезвляет даже самых буйных. Потому и применять его стоит только при тяжелых провинностях». [609]Напротив, бывший питерский омбудсмен Игорь Михайлов, у которого «мать инспектором милиции была, и все у нее было иод контролем», отдаст безусловное предпочтение ремню: «...Я делал так — раз сказал, два сказал, на третий — двинул. Ремнем! Рукой бить нельзя. Тем родителям, которые все-таки предпочитают воздействие, рекомендую: заведите ремень не очень жесткий, чтобы не отбить ребенку внутренности». [610]
Популярный писатель, профессор МГИМО и ведущий прекрасной телепередачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский на страницах «Комсомольской правды» и в телепрограмме «Культурная революция» (16.01.2009) также заявил, что без «без норки не обойтись»: «Непременно нужно пороть за серьезные провинности. Тарас Бульба убил своего сына Андрия за предательство. И тс, кто чи тает Гоголя, ис осуждают сто, а считают поступок Тараса правильным. Но! Физическое наказание ни в косм случае нельзя превращать в пытку, в унижение». [611]Поскольку в глазах широкой публики он выглядел «типичным интеллигентом», это заявление вызвало страшный скандал в блогосфсрс, Ю. П. Вяземского стали называть крепостником (приняли его псевдоним за княжескую фамилию), садистом и даже педофилом. Однако отношение к телесным наказаниям может быть никак не связано ни с уровнем образованности, ни с психосексуальными особенностями личности. Просто взгляды у этого профессора клерикальные и ультраконсервативные...
Каков итог?
О том, что Россия уже вступила на европейский путь либерализации семейной дисциплины, свидетельствуют не только официальные декларации о намерениях и создание должности Уполномоченного президента по защите прав детей, но и резко повысившееся внимание СМИ к детской теме, а также динамика массового общественного сознания. Однако путь этот долог и противоречив.
Родительские установки и дисциплинарные практики россиян сплошь и рядом не совпадают друг с другом, причем и тс и другие весьма разнообразны.
Гендерные различия в России практически те же, что и в странах Запада. Матери телесно наказывают детей чаще, чем отцы, зато отцы делают это более сурово, с применением каких-то орудий (порка ремнем против шлепанья). Мальчиков, по-видимому, порют больше, чем девочек, но это не является общим правилом, различия здесь скорее качественные, нежели количественные.
Хотя и родители, и дети считают телесные наказания средством воспитания, нередко они оказываются проявлением садистских наклонностей и/или способом эмоциональной разрядки взрослых, а некоторые поротые дети навсегда сохраняют пристрастие к спанкингу.
Доказательной макросоциальной статистики степени распространенности и психологических последствий телесных наказаний детей в России нет. К тому же вся проблема крайне политизирована и идеологизирована. Чтобы совершенствовать российское законодательство, помочь людям осознать издержки традиционных педагогических практик и обеспечить безопасность и благополучие детям, необходимы дальнейшие исследования темы и уточнение, на базе международного опыта, ее концептуального аппарата.
Natalia Pushkareva
History of shaming punishments for women: sources and consequences of gender asymmetry in Russian everyday life (11th—19th centuries)
The most obvious inequality between men and women in Russian traditional culture can be seen in the systematic discrimination and subordination of unmarried girls and married women in practices of disgracing (shaming or opprobrious) punishments for them. Shame was the most painful emotion in the Russian culture that had solid ties with its other special features as communitarianism, Orthodox basis etc. During Early Modern and Modern History (in Russia — from the late 15th to the 19th cc.) the primary basis for discrimination in private law (as it seen in normative documents, but especially in customary law) was that of gender. Comparing the documents of different Russian regions, one can expertise the practices of using shame as punishment, showing how ethnic culture, class (especially peasants), and gender intersected and helped to determine the experiences of those who were either recipients of punishment (women), or who determined the nature of punishment in the country (in the 19th c. — men only).
There is little analysis of who becomes a target of punishment and how gender, ethnic culture and class shape the views and objectives of administrators and the perceived suitability of certain interventions. Feminist historical analyses — that isn’t possible dismiss or ignore studying Russian history of shaming punishments for women — illustrate the perpetuation of not only punitive and coercive disciplinary power, but also the reproduction of certain configurations of power among and between class, Russian popular culture and gender, as well as sources and consequences of gender asymmetry in the Russian traditional and written right (mostly 19th, but also 20th c.).
Marianna Muravyeva
Everyday practices of violence: spousal violence in the Russian families of the 18lh century
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: