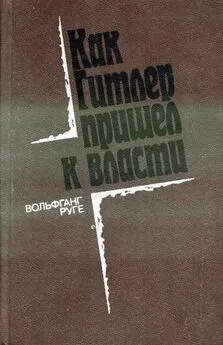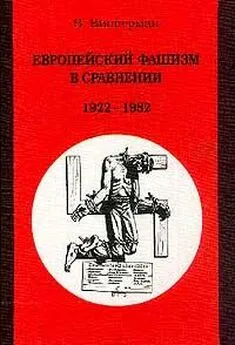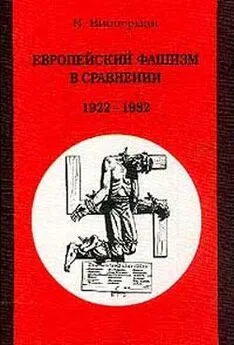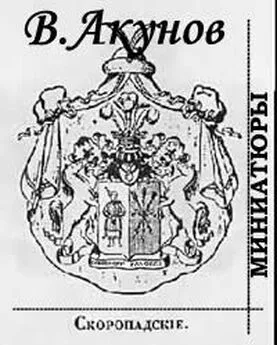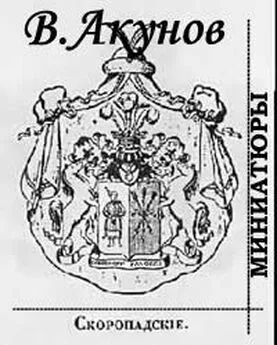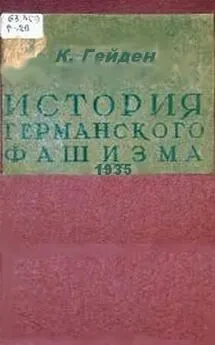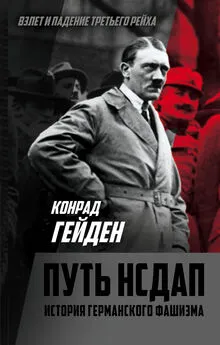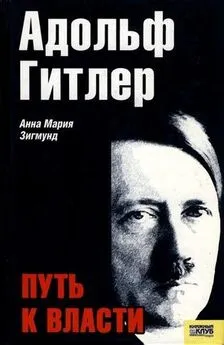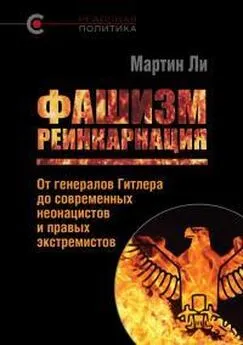Вольфганг Руге - Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии
- Название:Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфганг Руге - Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии краткое содержание
Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несмотря на это, нацисты считали референдум своим полным успехом. Ведь во время истерической кампании против нового урегулирования репарационного вопроса они, выступая самыми последовательными поборниками антиреспубликанского курса, смогли благодаря этому подготовить свое внедрение в традиционно идущие за правыми массы избирателей, а оно в ближайшем будущем сулило принести желанные плоды. Поскольку их партнеры по антиюнговскому движению были тысячами нитей связаны с существующим государством, нацистам не стоило никакого труда изображать немецких националистов и членов «Стального шлема» «реакционерами», которые держат нос по ветру и только тогда затрубили в антирес-публиканский рог, когда нацистское движение уже начало валить парламентаризм с ног.
К примеру, нацисты широко использовали то, что реакционный союз солдат-фронтовиков «Стальной шлем», почетным председателем которого был рейхспрезидент Гинденбург, нападая на «веймарскую систему», щадил этого высшего представителя республики и добился смягчения первоначального текста «закона свободы», где наряду с министрами в «национальном предательстве» обвинялся и сам глава государства — ему тоже грозили каторжной тюрьмой. Демонстративно отмежевываясь от такой «непоследовательности», нацисты на своих сборищах заявляли: «Народ… ныне вынужден оплачивать своих собственных рабовладельцев, именующих себя «герр рейхс президент» и «герр рейхсканцлер»» '.
Равным образом нацисты постоянно напоминали в завуалированной форме, что немецкие националисты, которые теперь двинулись в поход против республики, сами нередко заседают в республиканском правительстве и участвуют в определении его политики, а потому должны быть отстранены от власти. Когда вскоре после референдума один из немецких националистов, крупный аграрий Мартин Шиле, стал министром во вновь образованном имперском правительстве, нацисты стали орать: «Вот видите, эти тайные советники и помещики-аристократы из рядов традиционных правых партий только и делают, что гоняются за высокими постами!» У них же самих, без устали трубили нацисты, ничего общего с «системой» и ее носителями нет и быть не может. Они, как выразился один нацистский оратор, после своей победы «не станут дружелюбно и вежливенько похлопывать министров по плечу и просить их освободить кресло. Нет, они просто дадут им коленкой под зад, вышвырнут вон и посадят за решетку; законом тогда станет око за око, зуб за зуб» 2.
Даже эти немногие примеры говорят о том, что не отличавшаяся щепетильностью нацистская пропаганда стремилась любой ценой привлечь к себе всеобщее внимание и создать впечатление, будто на политическую арену выступило движение, которое безоговорочно направлено против любой половинчатости и в противоположность склонным к соглашательству парламентарным партиям полно решимости осуществить все провозглашенные этим движением цели. Для грубиянской и в то же время рассчитанной на внешний эффект фашистской пропаганды была характерна та имитация своего морального превосходства, с какой она обращалась к «человеку с улицы». Скажем, на плакатах, напечатанных жирным шрифтом, она называла его «жалким, позабывшим свой долг простофилей», который вполне заслужил это прозвище, ибо думает только об убогих рождественских подарках своим детям, закрывая глаза на то, что «план Юнга» готовит им участь «рабов-данников» держав-победительниц на целые десятилетия 3.
Своей крикливостью фашисты, агитируя против «плана Юнга», оставляли далеко позади все остальные правые силы, а потому зачастую даже давние приверженцы старых реакционных партий начинали считать, что НСДЛП и впрямь единственно активная и дееспособная сила в праворадикальном лагере и ее стоит поддерживать.
Это мнение разделялось и теми владельцами концернов, которые знали, как финансировался референдум; благодаря их пожертвованиям в антиюнговский фонд нацистская партия (получившая всего одну пятую этих сумм) привела в движение гораздо больше своих сторонников, чем немецкие националисты, «Стальной шлем» и «пангерманцы», вместе взятые, — на остальные четыре пятых. При этом положительные суждения о массово-политической действенности НСДАП усиливались начавшимся (заранее рассчитанным нацистами как побочный результат их пропаганды насильственных действий) разбродом внутри Немецкой национальной народной партии — из нее целыми группами стали выходить менее воинственно настроенные руководящие функционеры.
В сознании же общественности «закон свободы» связывался исключительно с гитлеровским фашизмом. В результате у широких кругов складывалось впечатление, будто более пяти миллионов голосов «за», поданных за него на плебисците, — это по существу признание совсем недавно еще осмеивавшейся как осколочная группа нацистской партии, которая теперь гигантскими шагами устремилась вперед.
Этот массово-психологический успех фашистов имел тем большее значение, поскольку общая экономическая ситуация в конце 20-х годов резко ухудшилась. За несколько недель до народного опроса, в «черную пятницу» (25 октября 1929 г.), крах на Нью-Йоркской бирже, подобно удару литавр, возвестил начало уже предвещавшегося многими симптомами мирового экономического кризиса. Он с необычной и возрастающей остротой охватывал весь капиталистический мир, особенно жестоко сказавшись на Германии, ибо она была экономически тесно связана с его эпицентром — Соединенными Штатами Америки.
Объем германского промышленного производства уже в 1930 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 13 % и составлял в 1931 г. всего 70 % от уровня 1929 г., а в 1932 г. даже и того менее — лишь 58 %. Число офици ально зарегистрированных безработных подскочило с 1,9 млн. человек в 1929 г. до 3 млн. в 1930 г. и в начале 1932 г. достигло высшей точки — более 6 млн. человек; к ним следовало прибавить еще минимум 2 млн. не зарегистрированных на биржах труда. Частично безработных, т. е. занятых неполный рабочий день, насчитывалось около 3 млн. Однако и заработка полностью занятых не хватало даже для удовлетворения самых элементарных жизненных потребностей.
Опиравшийся на многолетние традиции пролетарского движения, промышленный рабочий класс, несмотря на оппортунистическое поведение социал-демократических лидеров, в основной своей массе оставался классово сознательным. Его передовые силы все теснее сплачивались вокруг Коммунистической партии Германии (КПГ), закономерно считая кризис уродливым порождением капиталистической системы. Опустошительный ход развития все более укреплял в нем убеждение в необходимости ликвидации этой системы. Основная масса рабочего класса сохраняла, таким образом, иммунитет против примитивной нацистской пропаганды, объяснявшей кризис антигерманским заговором заграницы и «негерманским» курсом республиканских политиков. Это недвусмысленно показали результаты состоявшихся в 1930 и 1932 гг. трех выборов в рейхстаг: доля голосов, полученных на них обеими рабочими партиями (СДПГ и КПГ), составляла 13,2 млн. Тщетны были усилия фашистов привлечь на свою сторону рабочие массы, о чем еще будет сказано дальше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: