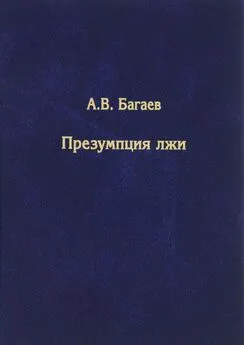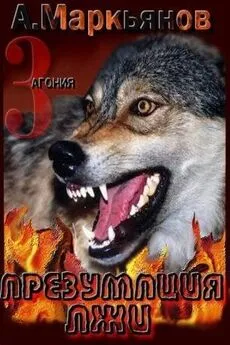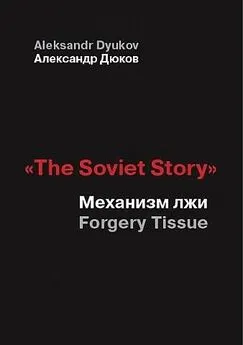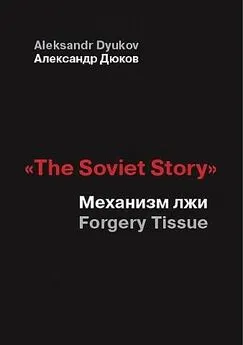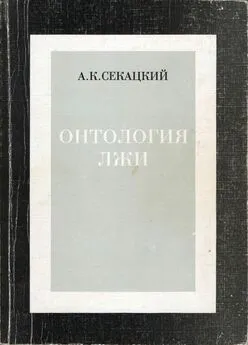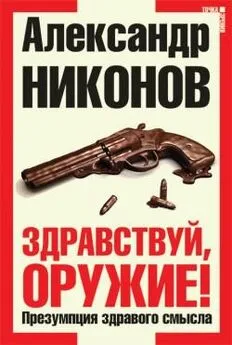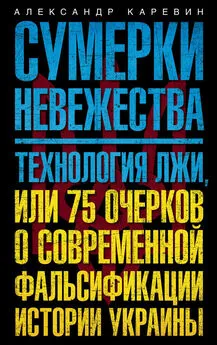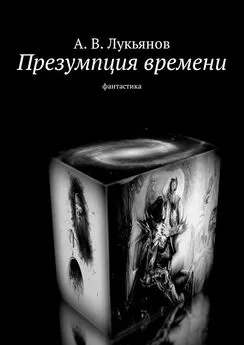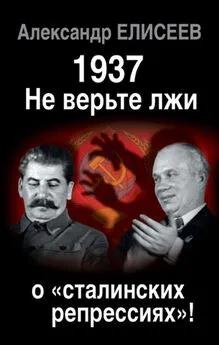Александр Багаев - Презумпция лжи
- Название:Презумпция лжи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Товарищество научных изданий КМК, 344 стр.
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-9908587-7-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Багаев - Презумпция лжи краткое содержание
Предисловие: А. И. Фурсов
Презумпция лжи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
___________________
Группа Серебрянского — или официально «Специальная группа особого назначения» (СГОН) — это (выделение шрифтом моё):
«Особая группа при наркоме внутренних дел, непосредственно находящаяся в его подчинении и глубоко законспирированная. В ее задачу входило создание резервной сети нелегаловдля проведения диверсионных операций в тылах противника в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае войны.»
То есть и структурно, и функционально эта группа в системе советских разведслужб являлась довольно близким аналогом Организации ZКлода Дэнси.
___________________
За время войны к уже имевшимся компрометирующим сведениям добавились, видимо, и ещё какие-то косвенные улики. Потому историки спецслужб до сих пор так и не могут решить окончательно, были Андрэ Лабарт и Марта Лекутр «советскими агентами» или не были.
Тем временем, как раз тогда, когда руководитель британский контрразведки Гай Лидделл письменно оформлял у себя в дневнике свои первые подозрения в отношении Марты Лекутр, кто-то из британской разведки уже договаривался с её покровителем Лабартом о выделении им крупной суммы денег для создания по сути оппозиционного де Голлю издания.
___________________
При этом как минимум один автор указывает — правда, не сообщая источника — что эти деньги французам передала непосредственно баронесса Будберг. Можно было бы и не обращать внимания на его «голые» слова, но ведь в деле, которое вели на Муру в ведомстве Гая Лидделла, значилось дословно, что она «устраивала заговор с целью отстранить генерала де Голля от руководства Движением Свободная Франция». Так что ничего как следует не понятно, и остаётся только взять зависший вопрос на заметку в надежде, что ещё будет у Муры когда-нибудь настоящий биограф, и что он-то до всего честь по чести докопается и всё расскажет.
____________________
Такое одинаково противоположное суждение двух разных британских спецслужб о двух разных женщинах из одной и той же журнальной редакции уже само по себе достаточно увлекательно и оправдывает самое пристальное к себе внимание. Но и на нём сходство судеб Марты и Муры ещё не заканчивается.
Вот что рассказал о Марте хорошо знавший её Пьер Галлуа.
В 1920-х гг., на очередной праздничной демонстрации в Москве Алта Кац (имя Марта и фамилию Лекутр она взяла позднее) возглавляла колонну польской коммунистической молодёжи. На неё обратил внимание Сталин (по воспоминаниям, Марта вдобавок ко многим другим своим качествам была ещё и просто красивой женщиной), и она получила приглашение в Кремль. Впоследствии ей довелось «общаться со многими творцами Истории, а для некоторых она даже послужила источником вдохновения…».
И ещё:
Марта занималась журналистикой, переводом, разведкой, издательской деятельностью, попеременно и вперемешку… безудержно влекомая превратностями неутолимой политической страсти из Вены в Берлин, оттуда в Москву, потом в Копенгаген, в Париж, в Нью-Йорк, в Лондон… без устали меняя одну личность на другую, а за счёт фиктивных браков — и национальность тоже…
Где тут кончается Марта и начинается Мура — и наоборот? Где проходит и есть ли вообще грань между этими двумя железными женщинами? Кто именно были влюблённые теперь ещё и в Марту «творцы Истории»?
Как могла Нина Берберова не ухватиться накрепко за такой-то уникальный биографический диптих?
ПОВТОРЮ: просто в неведение Берберовой — в данном случае о присутствии в Жизни Муры так удивительно на неё похожей Марты Лекутр — верится с трудом. И потому единственный разумный ответ мне видится только тот же, что и в случае с труднообъяснимым спонтанным единодушием британских журналистов. А именно: Нина Берберова строго следовала какому-то правилу, ей известному, а рядовому читателю — нет; то есть такому, какое принято называть неписаным . Нарушение которого Берберова, по-моему, как раз и квалифицировала — правда, крайне неточно — как «беззаконие».
По поводу этого слова, начитавшись её более поздних текстов и привыкнув таким образом к особенностям языка Нины Берберовой, уже прожившей к моменту написания «Железной женщины» тридцать лет в США, я почти уверен, что на самом деле она в уме, подсознательно пыталась — безуспешно — найти русский аналог английскому слову arbitrariness . Ведь оно, действительно, в своём самом распространённом смысле означает по-русски беззаконие, то есть «пренебрежение общепринятыми законами и нормами». Но одновременно у него специально для данного контекста есть и другое, гораздо более точное значение, которое по-русски «беззаконием» уже не называют. Это — описательно — «мнение, которое его выразитель почему-либо отказывается подтверждать объективными доказательствами». Так что вариант, гораздо более точный, чем использованный у Берберовой в тексте, был бы — «голословное утверждение». Но он очевидно и предательски красноречив и слишком уж прозрачен:
«Я бы, может, и рассказала бы больше, да не хочу никого ни в чём голословно обвинять…»
(Возможно, потому Берберова и отказалась от этого варианта.)
Короче говоря, когда Берберова в «Предисловии» подчеркнула, что из всего, ей о Муре известного, она не включила в свой рассказ только то, о чём говорить вслух — это уже «беззаконие», она, скорее всего, не имела в виду лишь какие-то юридически оформленные запреты, которые нам всем надлежит соблюдать. Она, если судить по тому, какие конкретно факты в её рассказе отсутствуют, оговорила, что по какой-то внеюридической причине не хочет и не станет какие-то ей известные вещи прилюдно объяснять и обосновывать: не с руки ей даже просто упоминать о них.
Скажем, сегодня ни один британский закон никому не запрещает порассуждать при желании — что дома на кухне, что прилюдно — о том, почему по мнению британских спецслужб на рубеже 1920-х гг. Герберт Уэллс уже самой своей персоной представлял какую-то конкретную опасность для британской империи. Тем не менее, через сто лет, уже в XXI веке все британские журналисты всего-то совсем чуть-чуть, но зато дружно и одинаково всё по-прежнему редактируют фразу архивариусов как раз так, чтобы любой даже намёк на подобное рассуждение исключить. И, значит, реально существует — не в стране или в мире вообще, а в их ремесле — какое-то правило, которое именно им именно такие «разговорчики в строю» о настоящей роли Уэллса запрещает.
Точно так же и у Берберовой. Когда она на своём чудном эзоповом языке старательно не называет пока ещё официально засекреченную спецслужбу — она, действительно, пытается избежать именно беззакония. Но когда она решает не вспоминать и не упоминать о европейских знаменитостях и просто широко известных деятелях, очевидно важных для её повествования — чего она боится, коли запрещающего закона нет? Объяснение остаётся одно: в её ремесле бытует неписаное правило, и по этому правилу в кругу людей, к которому Нина Берберова себя причисляет, о чём-то, что с указанными деятелями и знаменитостями связано и что имело самое прямое отношение к судьбе Муры, говорить вслух, то есть при посторонних, не принято, а то и вовсе нельзя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: