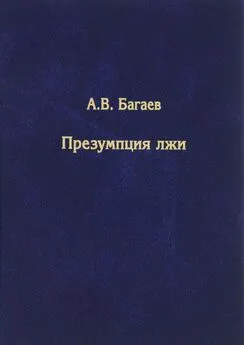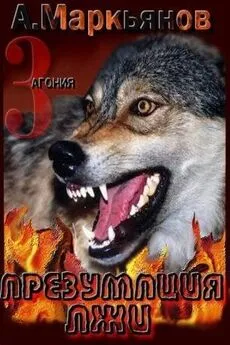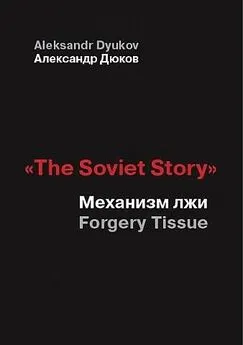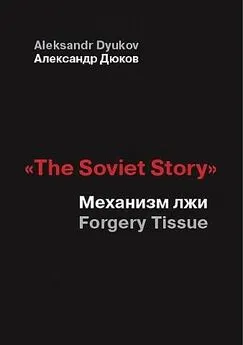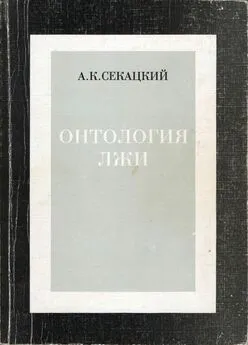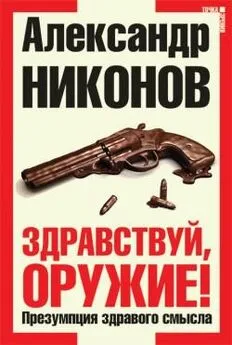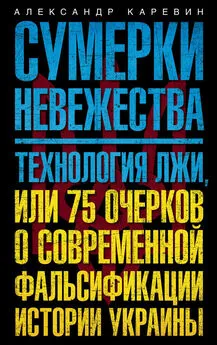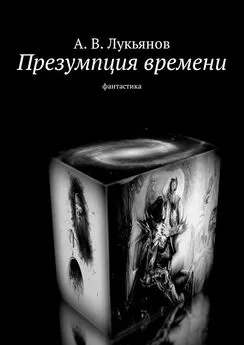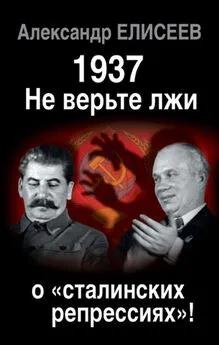Александр Багаев - Презумпция лжи
- Название:Презумпция лжи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Товарищество научных изданий КМК, 344 стр.
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978-5-9908587-7-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Багаев - Презумпция лжи краткое содержание
Предисловие: А. И. Фурсов
Презумпция лжи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В такой ситуации, если бы кто-нибудь стал вдруг утверждать, что беседа в повести подделана или вообще выдумана от начала до конца, и привёл бы в доказательство какие-нибудь языковые ошибки или нелепости в тексте, у него a priori ничего бы не получилось. Волею авторов ни один из причастных к оригинальному тексту людей не использовал при работе над ним свой родной язык, и потому любая возможная языковая нелепица или несуразица в нём имеет простое, очевидное — неоспоримое — объяснение: lost in translation ( англ .- утрачено при переводе).
Почему это важно? Работавший во время войны против японцев ветеран британской разведки и дезинформации, старший брат Яна Флеминга Питер Флеминг вспоминал с улыбкой некоторые их первые, ещё наспех и неумело сработанные тексты, в которых, например, у провинциального от сохи американского генерала вдруг проскакивали в приписанных ему высказываниях слова и обороты речи, бытовавшие только в слэнге выпускников эксклюзивно британского и очень светского и аристократичного Итона. Японцы, к счастью, не обратили внимания на грубый ляп (а могли бы…).
В этой связи есть и ещё одна особенность, которую, правда, заметить можно уже только при наличии определённой профессиональной квалификации и опыта.
Существующие публикации «Красной симфонии» на русском языке тоже не являются оригинальным текстом из дневников Ландовского. Они по идее воспроизводят обратный перевод (с испанского на русский), изданный впервые в 1968 г. в Аргентине. Автор этого перевода не известен, как не известна и судьба самих дневников, которые никто, кроме их испанского публикатора, не видел.
Качество этого обратного перевода на русский местами просто отвратительное, но имеет удивительную особенность: нигде ошибки переводчика, даже самые грубые, не приводят к искажению смысла; после очень долгого чертыхания по поводу временами абсолютно нерусской речи ловишь себя на том, что мысль-то тем не менее — ни разу при чтении не споткнулась.
А в действительно плохих переводах так не бывает.
Из-за чего я, лично, склонен думать, что этот «плохой» перевод был изготовлен специально настоящими профессионалами, [169]и что серьёзный лингвистический анализ переводческих ошибок в этом тексте с целью выявления их преднамеренности вкупе с заботой о беспрепятственном восприятии смысла мог бы составить неплохую дипломную работу, а то и целую кандидатскую диссертацию на моём родном переводческом факультете.
ТЕПЕРЬ другой технический аспект.
Поручение распечатать фонограмму Ландовский получил следующим образом;
Габриель: …вы не умеете писать на машинке, и аппарат должен будет двигаться очень медленно… нужно будет повторять параграфы и фразы… Вы печатаете на машинке?..
Ландовский: Очень плохо, очень медленно, только двумя пальцами. Я иногда печатал для развлечения в лаборатории, в которой я работал до того, как попал сюда.
Сколько времени требуется, чтобы просто отпечатать на пишущей машинке текст того же объёма, что и стенограмма допроса? В имеющейся у меня книге [170] объём текста беседы около 120 000 знаков. Скорость печатания совсем начинающей машинистки — беру за расчётную ту, что от нас на первом курсе переводческого факультета требовали на зачёте по машинописи — не меньше 90 знаков в минуту десятью пальцами слепым методом (т. е. не глядя на клавиатуру). Машинки у нас были тогда ещё самые обычные механические, по эффективности вполне сопоставимые с той, на которой в 1938 г. мог печатать Ландовский. Значит, примитивно обученная ремеслу начинающая машинистка (опытные мастерицы печатают быстрее) могла бы распечатать фонограмму того допроса примерно за 20 часов, и только если бы не остановилась при этом ни разу, ни на минуту (что само по себе нереально). Так что при минимальных навыках требуется никак не меньше 20 часов безостановочного печатания.
Доктор Ландовский, по его собственному признанию, не имел даже этих навыков и печатал не просто плохо, а «очень плохо», «очень медленно».
Слепым — более быстрым — методом печатания явно не владел, поскольку печатать вслепую двумя пальцами невозможно в принципе (указательные пальцы обеих рук нельзя отрывать одновременно от двух реперных клавиш в центре клавиатуры).
Кроме того, Ландовский печатал текст не на родном польском языке, и даже не на языке своего повседневного профессионального и бытового общения (русском), а на французском, которым пользовался активно всего два года и задолго до событий.
Наконец, он не уточнил, на каком именно языке «печатал для развлечения», но вряд ли то был французский. Так что французская клавиатура ему была наверняка абсолютно незнакома.
Печатание же двумя пальцами текста на непривычном языке да на незнакомой клавиатуре возможно уже не очень, а только катастрофически медленное.
И это ещё не всё.
Ландовский не перепечатывал готовый текст с листа (как мы на зачёте по машинописи); он разбирал и записывал его с фонограммы. Когда я в начале 1980-х гг. работал в ООН, наши стенографистки и машинистки из МИДа для такой работы имели магнитофон и наушник, а также подключённую к магнитофону специальную педаль, нажимая на которую ногой они останавливали запись и запускали её дальше. Такова тогда была техника самой быстрой распечатки с фонограммы. Но даже и с ней 90 зн./мин у наших мидовских девушек при сложных текстах получались не всегда.
Ландовский же, во-первых, слушал текст именно крайне для него сложный (он сам признаётся в послесловии). А во-вторых, чтобы остановить запись, отмотать назад, запустить снова, он не машинально тумблерами на магнитофоне щёлкал (я уж не говорю о нажатии ногой на педаль), а должен был каждый раз подавать какой-то сигнал «механику». Который к тому же не мог сам знать, до какого именно места нужно отмотать назад, поскольку французским не владел; из-за чего опять должны были повторяться раз за разом неизбежные технические паузы.
По всему получается, что распечатку беседы Ландовский сделать быстрее, чем хотя бы за 40–50 часов непрерывной работы (не считая времени на еду и отдых), не смог бы ну никак.
Теперь читаем, что рассказывает он сам:
Мы договорились начать нашу работу в одиннадцать часов (утра)… вначале механик должен был делать частые остановки для того, чтобы дать мне время записать… Мы работали приблизительно до двух часов дня и пошли завтракать. (…) Борясь со сном, я писал до пяти часов вечера…я рассчитал, что написал уже половину. Я отпустил человека… до десяти часов вечера, и бросился в кровать.
Я окончил писать после пяти часов утра.
Итого: первая часть работы с 11:00 до 17:00, т. е. 7 часов, и затем вторая часть с 22:00 до 05:00, т. е. ещё 7 часов; всего — 14 часов работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: