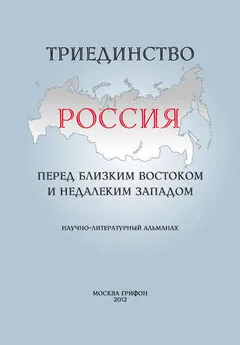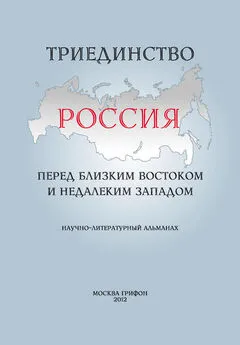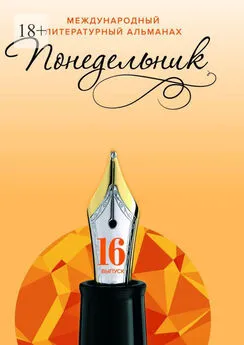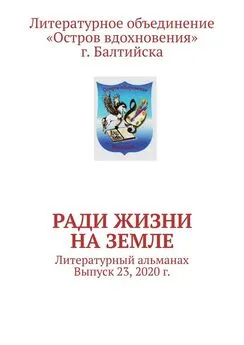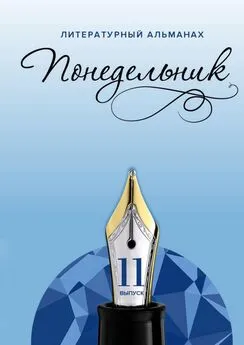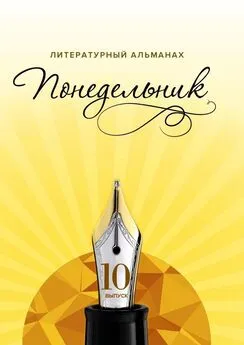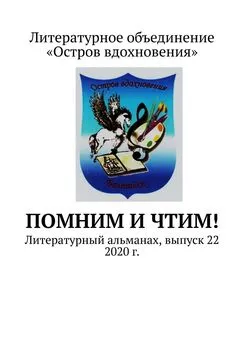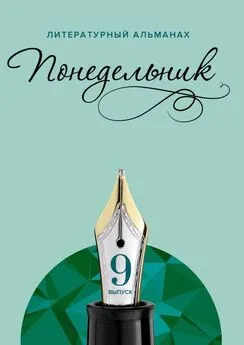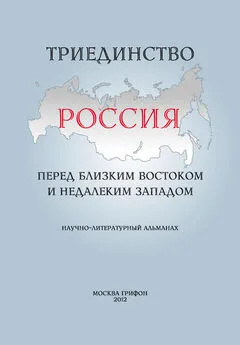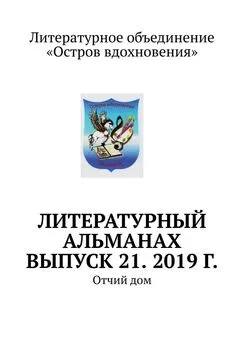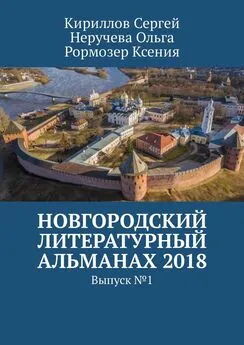Альманах Array - Триединство. Россия перед близким Востоком и недалеким Западом. Научно-литературный альманах. Выпуск 1
- Название:Триединство. Россия перед близким Востоком и недалеким Западом. Научно-литературный альманах. Выпуск 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Грифон»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98862-078-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альманах Array - Триединство. Россия перед близким Востоком и недалеким Западом. Научно-литературный альманах. Выпуск 1 краткое содержание
Первый выпуск нового альманаха (пилотный выпуск вышел в 2011 г.), который издается к 190-летию Института востоковедения РАН и 80-летию доктора исторических наук, профессора, академика РАЕН Л.И. Медведко (в прошлом – разведчика), включает статьи, посвященные попыткам урегулирования самого длительного конфликта века на Большом Ближнем Востоке, а также влиянию на международную политику глобального экономического кризиса. Анализируется и феномен ближневосточных «цветных революций» (включая конфликт вокруг Ливии). Авторы обсуждают актуальные проблемы, важные для национально-государственной безопасности России и стран СНГ.
Для всех, кто интересуется современной историей и политикой.
Триединство. Россия перед близким Востоком и недалеким Западом. Научно-литературный альманах. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но конфликт насилия над человеком и его жизнью невозможно пережить женщине, над которой надругались бандиты, жене, которой принесли отрубленную голову мужа, матери растерзанного на глазах у нее ребенка.
Вот почему именно женщина пишет свои свидетельства (они не только художественно-типизированные, но и документальные, и это очевидно, даже если героиня Латифы Бен Мансур – обобщенный образ современной алжирки) о кончине своей жизни в родной стране и об обреченности выживать на чужбине. Она, женщина, сконцентрировав в себе всю боль эпохи (которую увидела и запечатлела по-своему, а потому не только дополнила, но и сделала объемными, всесторонне представленными «свидетельские показания» алжирских писателей-мужчин), сконцентрировала в своей душе сущность гражданской войны людей как особой формы несостоявшегося мира, мщения занеосуществившиеся идеалы, несвершившиеся обещания. И «поруганная вера» служила в этой войне лишь эфемерной (если вспомнить Руми) «защитой» кровавых расправ. И разве не Женщину выбрали интегристы одной из первых своих мишеней? «Даже видавшие виды военные были терроризированы вылазками этих бешеных боевиков, порождений самых страшных кошмаров. Женщины становились их первыми жертвами. Именно потому, что женщины дают жизнь ребенку. А этим будущим жизням предстоит испытать страдания этого мира. Вот и вспарывали они в своем отчаянном безумии животы беременных и кромсали зародышей…» (с. 111).
Но она, женщина, сумела понять и долю своей ответственности за все случившееся (недаром героиня так часто произносит фразу: «Я, я виновата в смерти моего мужа и моей дочери» – в ответ на утешения друзей, что не все алжирцы повинны в творящихся в стране «безумии и варварстве» (с. 196). «Природная» тяга ее, женщины, к восстановлению «равновесия» и «порядка вещей» ради сохранения жизни (настоящей или будущей) оказалась недостаточной и неспособной сбалансировать «добро» и «зло», оказавшиеся рядом, на одних весах истории ее народа. Надо было бы, наверное, не пытаться бесконечно возводить новый Дом на руинах разрушенного, но суметь как-то искоренять ростки самого Зла, разрушающего мир… Но «активность» жизненной позиции женщины – дело нелегкое да и опасное, а в мусульманской стране – тем более. (Литературные примеры изобилуют трагедиями…)
Вот и болит душа, опаленная воспоминаниями. Вот и бежит человек в поисках «лучшей Земли», полагая, что там обретет утраченное Благо.
Но не случайно писательница избирает в качестве эпиграфа к той части своей книги, которая названа «Мрак», слова из любимой арабами «1001 ночи»: «О друг, оставь места, где царит угнетение. И покинь дом, наполненный посмертным плачем о тех, кто построил его… Ты обретешь другую землю. Но душа у тебя останется прежней. И тебе не обновить ее» [235]. Именно в этой, цельной и неделимой между родиной и чужбиной душе хранится память о том, что не должны ни совершать, ни испытывать люди. И, даже называя последнюю часть своего повествования «Возрождение», где явившийся на свет ребенок героини станет символом заново обретенной ей жизни, писательница уточняет, что он будет носить грозное имя «Шадаб Аллах», то есть «Гнев Божий», как синоним несогласия небесного с кошмаром пережитого человеком…
Латифа Бен Мансур поставит эпиграфом к этой части слова великого поэта Омара Хайяма: «О сколько их, людей, ушедших в долгий путь! // Немногие вернулись нам поведать //О миражах своих и бедах…// Но ты багаж свой не забудь, – // Тобой он обретен на скорбном том пути, // Которым больше не идти …» [236]
Цивилизация и «культура смерти»

А.И. Неклесса, заместитель генерального директора Института экономических стратегий при Отделении общественных наук РАН
«Культура смерти» – это выходящая в наши дни из глубин подсознания в пространства не только частной , но и общественной жизни тяга части человечества к массовой деструкции и автодеструкции. Тяга , носящая порой почти иррациональный характер , однако использующая разнообразные достижения цивилизации , проявляется в широчайшем диапазоне: от имеющих высокотехнологичную основу событий 11 сентября 2001 года до квазитрайбалистских волнений на глобальном архипелаге территорий (не только городских трущоб). Но наиболее драматично – в нарастающей на протяжении последних лет эпидемии террористов-самоубийц…
За пределом конца истории
Время, в котором мы обитаем, – лишь порог нового зона, зыбкое трансграничье, мост над неспокойными водами, объединивший погружающийся в Лету континент Модернити с возникающей из вод истории зыбкой и неведомой Атлантидой. Хроники переходного периода противоречивы и алогичны, они корректируют привычную систему исторической записи – Histories Apodexis. Качество фиксации реальности, характерное для уходящей эпохи, – ясность, логичность, выверенность оценок – в новой редакции бытия становится не слишком востребованным инструментарием, который в конечном счете рискует оказаться на свалке.
Дискуссии о постсовременной цивилизации или менее обязывающие рассуждения о модернизационной реформации вполне могут быть данью скучному ритуалу, но они же имеют шанс стать взрывчатой, революционной темой. И, кстати, совсем не риторичный вопрос: что , собственно говоря, понимать под «постсовременной цивилизацией»? Если это очередная социально-культурная метаморфоза христианского зона, то подобные процессы не раз, не два происходили на протяжении двух последних тысячелетий. Если же в данном понятии заключена мысль о призраке принципиально иной социальной конструкции, то мы, конечно, присутствуем при революционном и драматичном событии.
Вектор развития современной цивилизации – обретаемая людьми свобода, которая прагматично оценивается также мерой возрастания формального могущества. Но подобная констатация чревата двусмысленными следствиями. Кризис христианской культуры, несовпадение внутреннего мира человека с его техническими возможностями, модернизация без евангелизации, нелинейные, мультикультурные траектории развития – все это предопределило воспаления и разрывы социальной ткани, усиливая предчувствие грандиозной исторической пертурбации.
Сегодня в мире сложилась ситуация вселенской культурной растерянности. И сквозь рваную, эклектичную субстанцию просматривается контур некой постцивилизации .
Рубеж XXI века предоставил современникам редкий шанс почувствовать этот гул исторической тектоники, ощутить дрожь расходящихся плит цивилизации. Но, переживая ускорение бега времени, сталкиваясь с радикальностью перемен, мы, сидя утром в уютном кафе, слышим речи, читаем тексты, исполненные на прежнем языке. Реляции о пришествии новой земли и нового неба творятся при помощи однообразных приставок: « пост », « нео », « анти », « транс », « квази », « мета », старательно фиксирующих факт новизны, но неспособных сообщить нечто существенное о ее сути.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: