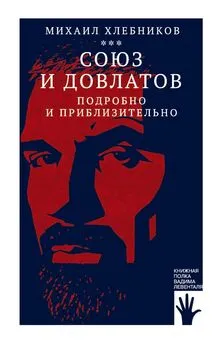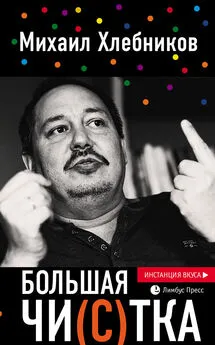Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]
- Название:Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ИД Городец
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907358-97-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Влияние, подражание – так мне казалось тогда. Марамзин сначала писал под Голявкина, а теперь пишет под Платонова. Получается хорошо, похоже, но у Платонова все равно лучше. Как-то Марамзин пожаловался: «Я стою в Лавке писателей, разглядываю книги. Подходит Рейн с большим портфелем и, не говоря ни слова, со всей силы ударяет меня этим портфелем по голове. „Женя, – говорю, – за что?” Он говорит: „За то, что плохо пишешь”».
Борис Вахтин в повестях и рассказах предлагаемого сборника демонстрирует выученность уроков «Серапионовых братьев». Его повесть «Летчик Тютчев, испытатель»:
Часть населения нашего дома сидела на лавочке возле котельной и миролюбиво беседовала.
– Если, конечно, так, – сказал бывший рядовой Тимохин, – то значит, в этом смысле все так буквально и будет.
– В этом буквально смысле, я считаю, и будет, – сказал писатель Карнаухов.
Но летчик Тютчев сказал:
– Я не согласен. Если бы так было, то уже было бы, но так как этого ничего нет, то значит, и вероятности в этом уже никакой нет.
Старик-переплетчик прикурил у летчика Тютчева и сказал:
– Вот оно как получается, если вникнуть.
Борис Иванов в литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е» с уважением пишет:
Творчество Вахтина – пример глубокой трансформации литературного языка, вслед за переоценкой ценностей, когда существовавший до этого язык был уже не в состоянии свидетельствовать о действительности, напротив – препятствовал этому.
Все хорошо. Но «если вникнуть», как советовал мудрый старик-переплетчик, то тексты авторов «Горожан» объединяет лишь одно качество – вторичность. И не важно, кто кому подражает или у кого учится. Смешно, что, запустив сборник на второй круг, соавторы пишут к нему звонкое предисловие:
Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника, нужна тысяча всяких вещей и свежесть слова. Мы хотим действенности нашего слова, хотим слова живого, творящего мир заново после бога.
Желание достойное, но, как убедительно показали авторы – трудновыполнимое. Путь к «заросшим» сердцам современников оказался тернистым.
Появление «Горожан» в издательстве «Советский писатель» не произвело какого-то яркого впечатления. Напротив, Вера Кетлинская в отрицательной рецензии приходит к небезосновательному выводу о «горожанах»: «К концу сборника нагнетающее, тяжелое и безотрадное настроение… Какими серо-коричневыми очками прикрыли авторы свои молодые глаза!»
Об оттенках при желании можно и поспорить, но в яркости соавторов действительно обвинить трудно. Вторая рецензия – одобрительная, принадлежала ленинградскому прозаику Александру Розену. Интересно, что у предполагаемого издания имелись, кроме всего, рекомендация для издательства и вступительная статья. Автором их был… Давид Яковлевич Дар. Вопрос о семейственности повис в воздухе. Здесь явно не хватало ядовитого пера Всеволода Анисимовича Кочетова. Без скандала и разборок издательство вернуло «горожанам» их щедрый подарок. Соавторы не унывали и снова отправили сборник в то же издательство, украсив тексты отрицательными отзывами и новым предисловием:
С читателем нужно быть безжалостным, ему нельзя давать передышки, нельзя позволить угадывать слова заранее.
По поводу безжалостности, пожалуй, соглашусь. Есть такое. А вот по поводу «угадайки» скажу, что словесное жонглирование может быть интересно в литературном цирке, но как яркий короткий номер: между клоунами и медведями на велосипедах. Когда так строятся тексты подряд, то очень быстро возникает усталость от языкового стекляруса. Кстати, в завершении вступительной статьи-манифеста соавторы срываются, пропадает бодряческий, в стиле ранних футуристов тон и появляется интонация великого гоголевского персонажа, лишившегося прекрасного наряда: «на шелку, с двойным мелким швом». Слушаем: «Почему мы не имеем права объединиться в одной книге, как творческие единомышленники – почему, почему, почему?»
Отмечу, что никаких репрессий в отношении соавторов не последовало. Более того, через несколько месяцев Игорь Ефимов «каменел» и «отшатывался» на приемной комиссии, когда его почти втолкали в ряды советских писателей. Вышло, как помним, книжное издание «Смотрите, кто пришел!». Владимир Марамзин не мог похвастаться такими достижениями, но и у него дела шли неплохо. В 1966 году он публикует детскую «познавательную» книгу «Тут мы работаем». Отрывок из нее под названием «Портрет завода как он есть» с подзаголовком «Рассказы человека, не всегда абсолютно серьезного» напечатали в «Юности» в декабрьском номере того же года. Нужно признать, что хотя содержание официальных и самиздатовских текстов Марамзина не совпадают, стилистически они гармонируют. Итак, автор рассказывает подрастающему поколению о прелести работы на крупном промышленном предприятии:
Когда я начал работать на заводе, я думал, что там будет все не такое, как в моей прежней жизни. В нашей школе, например, меня долго отучали от веселости, от живого характера.
– Привыкайте быть серьезными, – говорила нам часто учительница литературы Лидия Сергеевна. – Если сейчас не привыкнете, то потом на работе вам достанется лихо.
Сама Лидия Сергеевна никогда не смеялась, потому что давно приучила себя быть серьезной.
И потом мне не раз приходилось слышать, что, готовясь работать, а особенно на заводе, надобно спрятать в карман всякие свои черты характера, кроме настойчивости, пресерьезности и разответственности.
– Детство кончилось. Все! – говорили мне многие, словно бы с удовольствием. Мол, повеселились, поиграли – и хватит: отрабатывайте нынче за это.
Говорившие не правы: работа на заводе – радость. И начинается работа-радость уже на подходе к месту трудовой вахты:
Утром все мы идем на завод. Кто уже проснулся, а кто на ходу досыпает. Кто торопится, а кто спокойно ему говорит:
– Не торопись, никто твой станок не займет.
Вся улица понемногу втягивается в проходную завода.
И вдруг из проходной мы услышали музыку. Самую веселую музыку. И даже не одну, а сразу две музыки, то есть одну, но из двух колокольчиков, которые силятся друг друга обогнать.
Кто еще не проснулся – тот разом проснулся, а кто был вялый по природе – тот сразу стал по природе не вялый.
– Идем, как на танцы, – сказал Жора Крекшин из соседнего цеха.
– Заманивают нас в завод с утра пораньше, – сказала тетя Настя, а сама довольна, даже пошла поскорее, хотя и знает, что станок не займут.
Оказывается, было решение завкома: по утрам давать из проходной людям музыку. Для утренней бодрости.
Заботится завком о нас о всех с утра пораньше.
Неожиданно в сознании картины «праздника труда» смешиваются с похождениями любвеобильного Ивана Петровича:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]](/books/1142517/mihail-hlebnikov-soyuz-i-dovlatov-podrobno-i-pribl.webp)

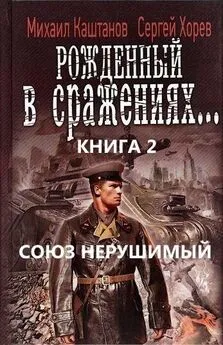
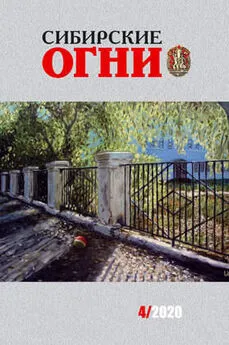
![Михаил Владиславин - Союз бородатых [СИ]](/books/1080778/mihail-vladislavin-soyuz-borodatyh-si.webp)
![Михаил Ланцов - Иван Московский. Первые шаги [litres]](/books/1083607/mihail-lancov-ivan-moskovskij-pervye-shagi-litres.webp)
![Михаил Ланцов - Иван Васильевич. Профессия – царь! [litres]](/books/1092495/mihail-lancov-ivan-vasilevich-professiya-car.webp)
![Михаил Кормин - Красная река, зеленый дракон [litres]](/books/1147848/mihail-kormin-krasnaya-reka-zelenyj-drakon-litres.webp)
![Олег Кожевников - Михаил II: Великий князь. Государь. Император [сборник litres]](/books/1149499/oleg-kozhevnikov-mihail-ii-velikij-knyaz-gosudar.webp)