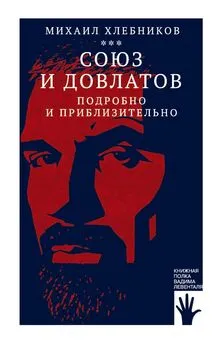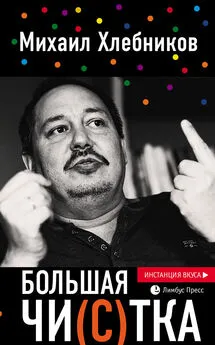Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]
- Название:Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент ИД Городец
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907358-97-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кстати, разгромный отзыв Соловьева не стал фатальным для прозаика Дмитрия Иосифовича Притулы. Он продолжал печататься в толстых журналах. В 1976 году выходит первая его книга «След облака». В 1978 году он получает писательский билет. Всего как советский писатель он издал пять книг. В одну из них он включает «Провинциальную историю», которая спокойно прошла издательскую редактуру. В 1984 году по сценарию Притулы сняли художественный фильм «Жил-был доктор». Как тогда говорили: крепкий, состоявшийся автор. Никто из редакции «Авроры» не пострадал из-за напечатанной повести. Все понимали, что критика носит несколько формальный характер. При должном развороте пера критик мог отобрать призовой абзац у той же Галины Галаховой, упрекнув ее в мелодраматизме, то есть в попытке потрафить невзыскательному литературному вкусу. Наезд на повесть Притулы – следование принципу 75 %. Это доля удачных, ярких публикаций. Последняя четверть – повод задуматься, сделать выводы, исправить допущенные ошибки.
Советская критика того времени вообще избегала слишком «пристрастных оценок», считая их признаком 1920-х – начала 1930-х годов, когда литературная жизнь кипела, шла борьба различных писательских групп и объединений. Конечно, присутствовала и «жесткая критика», которая заказывалась сверху, но она имела косвенное отношение к искусству. Так наказывались крупные идеологические проступки писателей. Но это был особый жанр, в котором работали особые авторы. Написанные самостоятельно персональные «разгромные» статьи не приветствовались. Так, в 1979 году в журнале «Москва» появилась статья Владимира Бушина «Кушайте, друзья мои», посвященная исторической прозе Булата Окуджавы. Критик в ней не касался политических вопросов, говоря о печальных последствиях поиска автором «Бедного Авросимова» и «Путешествия дилетантов» «внешней выразительности». Бушин просто страницами выписывает особо удачные места из романов. «За окнами брезжили сумерки», «ворона кричала нечленораздельное», «постепенно ударило четыре», «чудо падения от взлета в бездну», «в доме происходил какой-то озноб». Стилистические красоты гармонично сочетались со знанием истории, которое со всей осторожностью можно определить как поверхностное. Статья Бушина вызвала огромный интерес. Ее читали, обсуждали, хвалили и ругали, что для критической статьи нормально и желательно. В итоге следующая литературно-критическая публикация Бушина увидела свет в 1986 году. Незримая конвенция предписывала воздерживаться от субъективизма, демонстрируя взвешенность оценок, использовать риторические смягчающие приемы: «но в то же время», «с другой стороны», «наряду с удачными страницами».
По поводу своих журнальных мытарств Довлатов в середине восьмидесятых написал эссе «Как издаваться на Западе?».
Я начал писать рассказы в шестидесятом году. В самый разгар хрущевской оттепели. Многие люди печатались тогда в советских журналах. Издавали прогрессивные книжки. Это было модно.
Я мечтал опубликоваться в журнале «Юность». Или в «Новом мире». Или, на худой конец, – в «Авроре». Короче, я мечтал опубликоваться где угодно.
Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов.
Это было странно.
Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы.
Елена Клепикова в книге «Быть Сергеем Довлатовым» также процитировала «Как издаваться на Западе?». С небольшим пропуском. Можно назвать это дружеской цензурой. Читаем:
Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. Издавали прогрессивные книжки… Я мечтал опубликоваться в журнале «Юность». Или в «Новом мире»… Короче, я мечтал опубликоваться где угодно.
Клепикова вырезала: «Или, на худой конец, – в „Авроре“». Потому что сама шесть лет проработала редактором «Авроры» – хорошего журнала, где печатали Евтушенко, Искандера, Валерия Попова… Ну и не будем забывать братьев Стругацких. Зачем обижать достойное издание? Довлатов стал классиком «потом», когда он жил в Америке. Когда по соседству с ним обитала семья Соловьева – Клепиковой. Потом он умер и о нем можно и нужно писать воспоминания. Мемуарист и тогда, в далекие семидесятые, испытывала явную симпатию к своему герою. Но она была недостаточной для того, что продавливать рассказы и повести Довлатова. Которые могли бы напечатать, но на них не сделать имя редактору, не было «политического подтекста», который делал издание прогрессивным.
С чем можно сравнить положение в литературе Довлатова в те годы? Наверное – топтание на пороге. Куда и зачем идти, ясно, но невозможно сделать шаг вперед, преодолеть расстояние, отделяющее журналиста от молодого писателя. Рецензии, очерки, юморески – все около литературы, но не сама литература. Работа литературным секретарем у Пановой также не приближала к писательству. У Довлатова стремительно развивается комплекс литературного неудачника, скрыть который было непросто даже за маской весельчака, природного рассказчика, излучающего обаяние. Эту незащищенность, уязвимость видели многие.
Вспоминает Диана Виньковецкая:
В лице что-то восточное, древнеримское, гладиаторское, хотя я никогда гладиаторов вблизи не видела. Но во всем внешнем облике изумило какое-то несоответствие между большим ростом и неуверенной походкой, между правильными чертами лица и растерянными губами.
Свидетельство Александра Шкляринского:
Меня поразило («поразило» – слово слишком литературное, но пусть будет) полное несоответствие внешности Сергея, всей его фигуры, его смеху. Вернее, манере смеяться. Тогда мне показалось, что именно смех, говоря словами Булгакова, выдавал Сергея с головой. Поясню.
От такого верзилы под два метра ростом, каким был Сережа, естественно было бы ожидать какого-нибудь шаляпинского рыка, гогота, ржанья… а ничего этого не было. Сергей смеялся каким-то коротким, или, как бы выразились в девятнадцатом веке, конфузливым смехом. И это делало его уязвимее, что ли. Хотя он все время старался демонстрировать именно уверенность и несокрушимость.
Иногда он посреди разговора внезапно втягивал голову в плечи, выставлял кулаки и делал несколько быстрых боксерских движений, как бы напоминая собеседнику, с кем тот имеет дело.
Вообще в те годы Сергей внутренне далеко не так был уверен в себе, каким хотел казаться, и первым выдавал его, да, именно смех.
Слова Шкляринского нуждаются только в одном уточнении: «в те годы» растянулись для Довлатова на всю жизнь. Неуверенность в себе заставляла его постоянно сверять себя с тем, что составляет сущность и причину писательства. Довлатов не только пишет, но пытается понять, почему он пишет. Из письма Людмиле Штерн от 31 мая 1968 года:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Хлебников - Союз и Довлатов (подробно и приблизительно) [litres]](/books/1142517/mihail-hlebnikov-soyuz-i-dovlatov-podrobno-i-pribl.webp)

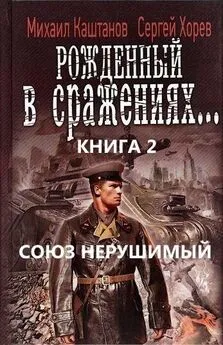
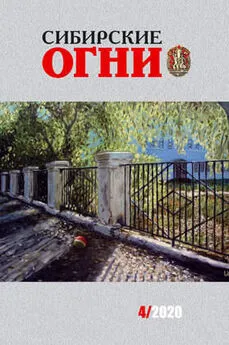
![Михаил Владиславин - Союз бородатых [СИ]](/books/1080778/mihail-vladislavin-soyuz-borodatyh-si.webp)
![Михаил Ланцов - Иван Московский. Первые шаги [litres]](/books/1083607/mihail-lancov-ivan-moskovskij-pervye-shagi-litres.webp)
![Михаил Ланцов - Иван Васильевич. Профессия – царь! [litres]](/books/1092495/mihail-lancov-ivan-vasilevich-professiya-car.webp)
![Михаил Кормин - Красная река, зеленый дракон [litres]](/books/1147848/mihail-kormin-krasnaya-reka-zelenyj-drakon-litres.webp)
![Олег Кожевников - Михаил II: Великий князь. Государь. Император [сборник litres]](/books/1149499/oleg-kozhevnikov-mihail-ii-velikij-knyaz-gosudar.webp)