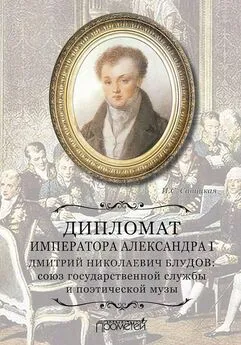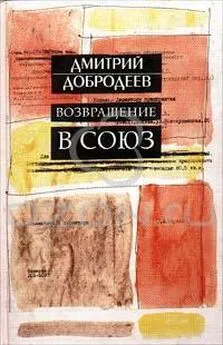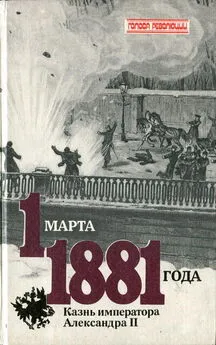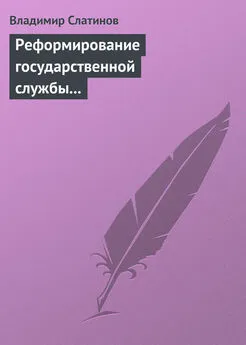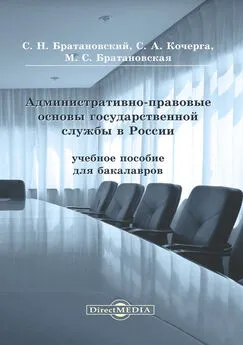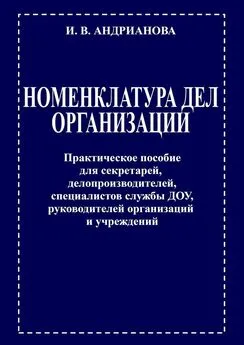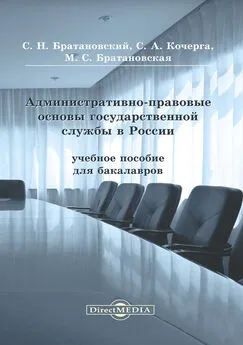Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Название:Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прометей
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907166-13-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы краткое содержание
Книга основана на источниках, в том числе и неопубликованных. Она представляет интерес для всех, интересующихся отечественной историей, русской дипломатией и литературой.
Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Используя сакральные темы и священные тексты, арзамасцы противопоставляли «Беседе» своего Бога Вкуса — категорию карамзинской эстетики. Понятие «вкуса» исследователи называют родовой чертой карамзинизма у арзамасцев.
Шуточное прозвище членов общества «Арзамас» «благородные гуси» сложилось в том числе и благодаря устоявшейся традиции, согласно которой, правило, на ужин подавали гуся [567] Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. СПб., 1871. С. 114.
.
Протокол каждого заседания завершался пунктом об ужине, в том случае, если не было гуся, «желудки их превосходительств были наполнены тоскою по отчизне», о чем вносилась соответствующая протокольная запись [568] Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 90.
.
За шуточным единством скрывалось единство более серьезное — духовной общности, объединявшей столь разных арзамасцев. Сакрализация гуся, которая отразилась в речах и переписке арзамасцев, была связана с темой вкуса (каламбуром, направленным против неприятия А. С. Шишковым нематериального французского значения слова «вкус»). Поэтому гастрономические ассоциации вкуса гуся у арзамасцев сочетались с приобщением новоизбранных арзамасцев к таинствам, а гусь обретал значение метафоры.
Почетным гусем «Арзамаса» стал Н. М. Карамзин [569] Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 189.
, бывавший на его заседаниях. Блудов упоминал о том, что некоторые главы «Истории государства Российского» Карамзина писались не без влияния «Арзамаса» [570] Там же. С. 31.
. Почетными гусями также были князь Г. И. Гагарин, И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, князья А. Н. Салтыков и М. А. Салтыков.
Имя Карамзина являлось для арзамасцев сакральным. Писатель и историограф был для них примером, идеалом, «каноном» образцового поведения писателя и гражданина и… безупречного вкуса. В начале февраля 1816 г. Карамзин впервые после двадцатипятилетнего перерыва в сопровождении друзей арзамасцев-москвичей П. А. Вяземского и В. Л. Пушкина прибыл в Петербург для решения вопроса об издании первых восьми томов «Истории государства Российского». Контуры грандиозного произведения давали арзамасцам надежду реализовать свою потребность в объединении под сенью могучего литературного авторитета.
15 апреля 1816 г. на заседании «Арзамаса», проходившего в гостиной Блудова, Карамзину был вручен «Диплом» «арзамасцами, верными его обожателями» — «вексель на дружбу», как «лучшему из людей». В сказанной по этому поводу «Речи» говорилось: «Его Высокородие Николай Михайлович Карамзин, славный отец наших предков, ибо он вместе с юною красавицею Музою истории, произвел их (исторических лиц, — И. С.) на свет таковыми точно, каковыми они есть, и сдунул с лица земли тех самозванцев и самохвалов, которые в арлекинских платьях таскались по миру под их священными самоназваниями» [571] Там же. С. 158. «Примите ж, счастливый любовник славы, — в такой стилистике обращались к Карамзину арзамасцы, — сей бумажный и бренный символ того, что вечно и нетленно, что писано не на бумаге. А в сердце, не орешковыми чернилами скоротечности, а неизгладимым, нравственным ультрамарином вечного, сладостного, драгоценного чувства». В дальнейшем Н. М. Карамзин считал Д. Н. Блудова возможным преемником в продолжение создания «Истории государства Российского». (См.: Лачаева М. Ю. Приглашается вся Россия… Всероссийские промышленные выставки (XIX-начало XX в.): Петербург, Москва, провинция. М., 1997. С. 150–151). Князь П. В. Долгоруков передал рассказ Д. Н. Блудова о том, что вскоре после кончины Н. М. Карамзина уже в мае 1826 г. министр просвещения адмирал А. С. Шишков советовал Николаю I запретить «Историю государства Российского» как носящую в недрах своих «зерна вредного либерализма». (См.: Шмидт С. О. Общественное самосознание российского благородного сословия XVII-первая треть XIX века. М., 2002. С. 219).
.
Чествование Карамзина относилось к знаковым событиям истории «Арзамаса», который уже в 1816 г. переживал непростые времена, его преследовали драматические события. В шестом заседании «Арзамаса» 16 декабря 1815 г. Блудов читал пародийную надгробную речь И. С. Захарову, автору «Похвалы женам», сообщив присутствовавшим, что в предшествовавший вечер оратор Захаров скончался публично на средине «Похвального слова женам»; отвечавший ему Дашков упомянул, что, не в пример «древней Кассандре», новая пророчица снискала всеобщее доверие — пусть же она предвестит мир после чернильной брани «и гибель врагам любезного Арзамаса». «Предвещание» вскоре сбылось: Захаров скончался 30 января 1816 г. Этот факт получил подробное и широкое освещение в литературе. В стихах об «Арзамасе» Пушкин написал: «Где смерть Захарова пророчила Кассандра». К концу 1816 г. арзамасская «карнавальность» обретала все больше негативный оттенок и все меньше удовлетворяла самих арзамасцев.
При вступлении в «Арзамас» К. Н. Батюшкова осенью 1817 г. Блудов в «Речи», посвященной этому событию, с сожалением, констатировал: «Увы! Любезный Ахилл, вступая в сию храмину, вы искали Арзамаса и находите один труп его, неодушевленный. Искалеченный ударами рока. Где многие из подпор наших? Где вещий Чу? (Дашков — И. С.) Где волшебная Старушка? (Уваров — И. С.) Где Асмодей (Вяземский — И. С.), блестящий одним остроумием? И где свежая веселось, украшавшая первые дни наши! Ах, Арзамас! Все погибло! Несчастный голос, призывающий к труду, призвал нас к унынию; истощилась в Светлане (Жуковском — И. С.) руда ее бесценной галиматьи, Эолова Арфа (Ал. Тургенев — И. С.) растеряла свои струны, по устам всех сленов [572] Слен — твердая слизь, в роде прозрачной кожи, которой рыба покрывается на зиму.
вместо беспечной улыбки Арзамаса бродит зевота Академии!» [573] Арзамас и арзамаские протоколы. Л., 1933. С. 243–244.
«Возродителем» (по выражению Блудова) «Арзамаса» Ахилл-Батюшков не стал.
Арзамасцы подошли к такому порогу, когда уже было необходимо ставить вопрос об изменении характера общества, его целей и задач. Д. В. Давыдов в своей «Речи» на осеннем заседании 1817 г. сформулировал цель общества как «образование себя в литературе, особливо в русской, образование нравственного нашего характера» [574] Арзамас и арзамаские протоколы. Л., 1933. С. 244.
. К концу 1817 г. арзамасцев занимало в их собрании больше всего — «самое собрание». По наблюдению Я. К. Грота они переросли свою веселость и начинали думать о серьезном деле.
В уставе «Арзамаса» была сформулирована двоякая цель: «польза отечества, состоящая в образовании общего мнения, т. е. в распространении познаний изящной словесности, и вообще мнений ясных и правильных; польза самих членов, состоящая в труде постоянном» [575] Там же. С. 246.
. Для этого предполагалось издание обществом своего журнала и трудов, создание библиотеки, которой бы мог пользоваться каждый член общества, и обязательное ежегодное написание статей, количество которых было определено для находящихся в России избранных членов числом 12, а для находившихся за границей — 6. От ежегодного написания статей могли быть освобождены «некоторые Арзамасцы» «из уважения к слабости их здоровья или по многочисленным занятиям по какой-нибудь другой части». При этом, они должны были заранее объяснить «о сих препятствиях Арзамасу по совести». Арзамасу же предоставлялось право решить «без потворства, должно ли принять оные в уважение» [576] Там же. С. 247.
. Седьмая глава устава определяла расходы «Арзамаса». На издержки: переписку общества, покупку книг, журналов, жалованье переписчику, мелкие канцелярские расходы устанавливался ежегодный взнос в размере 50-ти рублей. Собранные средства должны (поскольку в «Арзамас» вступило 20 членов, то речь могла идти о сумме 1000 рублей) были храниться у секретаря, «состоя в его распоряжении и на его счете» [577] Там же. С. 256.
. Таким образом, вводился принцип, характерный для клубной культуры. Приведенный в движение личными интересами, чувствами и понятиями «Арзамас» из области, по преимуществу, личности, для своего дальнейшего развития должен был либо осваивать законы организационного строительства, прописанные в его уставе, либо… «смолкнуть».
Интервал:
Закладка: