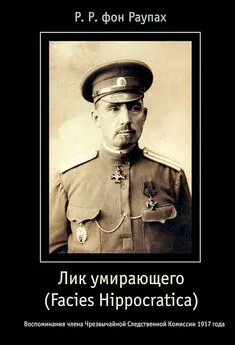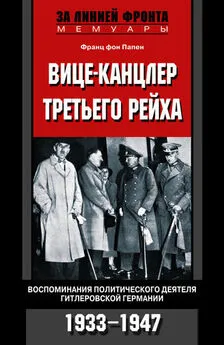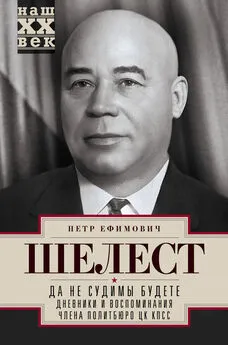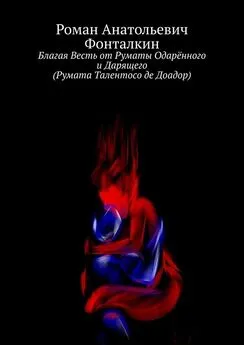Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Название:Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя: Международная Ассоциация «Русская Культура»
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-355-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года краткое содержание
«Лик умирающего» — не просто мемуары о жизни и деятельности отдельного человека, это попытка проанализировать свою судьбу в контексте пережитых событий, понять их истоки, вскрыть первопричины тех социальных болезней, которые зрели в организме русского общества и привели к 1917 году, с последовавшими за ним общественно-политическими явлениями, изменившими почти до неузнаваемости складывавшийся веками образ Российского государства, психологию и менталитет его населения. Это попытка, одного смелого человека, заглянуть в «лицо умирающего больного», коим было Российское государство и общество, и понять, «диагностировать» те причины, которые приковали его к «смертному одру». Это публицистическая работа, содержащая в себе некоторые черты социально-психологического подхода, основанного на глубоком проникновении в социальные, культурные, поведенческие и иные особенности российского этноса.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
3-й пункт слышанного капитаном Б, приговора представлялся ему уже совершенно непонятным. По этому пункту никто, кроме него показаний не давал, но те рассеянные вопросы, которые предлагал ему Мясоедов, не могли бы дать немцам никакого представления ни о наших силах, ни о их расположении.
«Под такое обвинение можно было бы с успехом подвести любого офицера русской армии, явившегося на чужой участок и задававшего, вероятно, такие же вопросы».
«Позорное» дело Мясоедова произвело на свидетеля «впечатление грубейшей подделки, имевшей целью найти козла отпущения в несчастном разгроме 10-й армии и гибели 20-го корпуса».
Излагая две группы того обвинительного материала по делу Мясоедова, с которым я ознакомился летом 1917-го года, я умышленно отложил оценку третьей группы, т. е. самого приговора того военно-полевого суда, который судил его в Варшаве. Сделано это было с целью облегчить читателю возможность более наглядного сопоставления того, что я читал в 1917 году, с тем, что капитан Б. слышал на суде в Варшаве в 1915 году.
В том приговоре Варшавского военно-полевого суда, который я читал и который был приобщен к делу Сухомлинова в качестве вещественного доказательства, имелось не три, а четыре пункта.
По пункту 1 Мясоедов признавался невиновным в том, что, состоя на службе при штабе 10-ой армии и имея потому возможность получать сведения о состоянии наших войск, он вошел в сношение с противником и передал ему сведения, касавшиеся 20-го армейского корпуса.
По пункту 2 он признавался виновным в том, что будучи назначен в крепость Ковно для агентурной разведки, собирал сведения о расположении наших частей с целью сообщения их неприятелю.
По пункту 3 он признавался виновным в том, что в период времени с 1907-го по 1912-й годы собирал и сообщал иностранному государству, сведения, подлежавшие хранению в тайне в видах внешней безопасности государства.
По пункту 4 он признавался виновным в том, что похитил из охотничьего домика Императора Вильгельма, находившегося на занятой нашими войсками неприятельской территории, две гравюры.
Так как по первому пункту Мясоедов был оправдан, а по второму и третьему пунктам приговорен к смертной казни быть не мог, ибо деяние изложенное в пункте втором, являлось только покушением, а заключавшееся в пункте третьем учинено было не в военное, а в мирное время, то оказывалось, что смертный приговор Варшавским судом вынесен Мясоедову за деяние, изложенном в пункте четвертом, то есть за присвоение двух гравюр.
Сопоставление этого приговора с тем, который слышал капитан Б. приводит к заключению, что приговоров было два: один подлинный, слышанный капитаном Б. на суде в 1915-ом году и признававший Мясоедова виновным в предательстве на театре военных действий, и другой, подложный, приложенный к следственному делу о Сухомлинове и признававший Мясоедова в предательстве невиновным .
Кроме того, во втором приговоре оказалось включенным новое обвинение в шпионаже (пункт 3) которого, как это видно из показания капитана Б., в приговоре Варшавского полевого суда не было вовсе.
Для чего понадобилось включение пункта 3, читатель узнает из дальнейшего, что же касается пункта 1, то тут возможны, конечно, лишь догадки.
Наиболее вероятной из них представляется опасение, что в силу закона от 13-го июня 1917-го года, дело Мясоедова будет пересмотрено военно-окружным судом, и, так как в подлинном приговоре пункт 1 о предательстве излагался в виде общей характеристики действий Мясоедова, без конкретных указаний на поступки, из которых эти действия слагались, то отмена такого приговора являлась совершенно несомненной.
Наоборот, при оправдании по пункту о предательстве, всякая возможность отмены приговора Варшавского военно-полевого суда отпадала, так как назначение им Мясоедову смертной казни за мародерство, при наличии сознания в этом деянии, являлось юридически правильным 66 .
Желание во чтобы то ни стало сохранить силу судебного решения за Варшавским приговором, совершенно необходимом творцам и руководителям Сухомлиновского процесса, для сконструирования обвинения в «предательстве» военного министра и было, по-видимому, причиной того, что Мясоедов, признанный виновным в предательстве в 1915-ом году, в 1917-м в этом деянии оказался оправданным.
Действительность показала, впрочем, что опасения творцов и руководителей были напрасны. Петербургский военный прокурор не возражал против утверждения, что пересмотр Мясоедовского дела военно-окружным судом задержит уже назначенное к слушанию дело Сухомлинова. Чем он руководствовался, сказать трудно, так как пересмотр письменного дела Мясоедова не мог потребовать более одного-двух часов времени. Прошение же об этом пересмотре поступило до 13-го июля, т. е. более чем за месяц до 14-го августа, когда должно было начаться слушанием дело Сухомлинова.
Другим основанием к обвинению Сухомлинова в измене был приговор военно-полевого суда в городе Бердичеве по делу о преступном сообществе, поставившем себе целью способствовать Германии и Австрии в их враждебных против России действиях.
О том, что кроме Мясоедовского будет еще использовано и это дело, мне летом 1917 года известно не было, и я с ним не познакомился, поэтому сущность его передаю по данным обвинительного приговора, кассационной на него жалобы и объяснений самого Сухомлинова в его книге «Воспоминания» 67 .
Упомянутое общество состояло из австрийского подданного Альтшиллера, артиллерийского полковника Иванова, его жены, еврея Веллера, Василия Думбадзе, Анны Гошкевич, писаря главного артиллерийского управления Милюкова и др 68 .
Австрийский подданный Альтшиллер военно-полевым судом не судился, так как одновременно с объявлением войны уехал в Австрию.
Военно-полевой суд, слушавший дело уже после увольнения Сухомлинова, приговорил обвиняемых к разным срокам каторги и поселения.
После нашей карпатской катастрофы, повлекшей за собой очищение почти всей Галиции, начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Янушкевич писал военному министру, генералу Сухомлинову: «Сейчас узел событий на Карпатах надо успеть предупредить. Очень опасаюсь, что и там есть свой Мясоедов. Так это чувствуется, что волосы дыбом становятся. Неужели Русь так опустилась? Впрочем, Бог даст, справимся и с изменниками, хотя роль даже заглазного палача и не особенно приятна, но тут не до того».
По принятому порядку дела о шпионаже военным юристам не поручались. Отсутствием этого рода доверия можно было только гордиться, так как имена таких специалистов по шпионским делам, как гражданский следователь Матвеев и Варшавский прокурор Жижин, пользовались такого рода известностью, в которой для честного служебного следователя было мало заманчивого. К числу этого рода специалистов принадлежал и прапорщик Кочубинский, сумевший создать целое сообщество людей, друг друга не видевших.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: