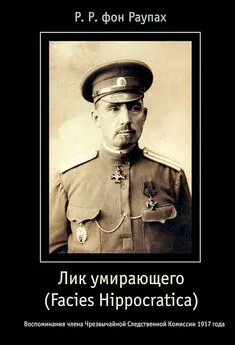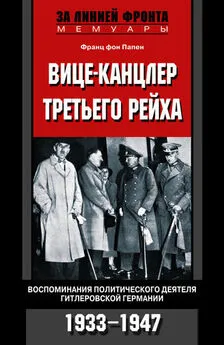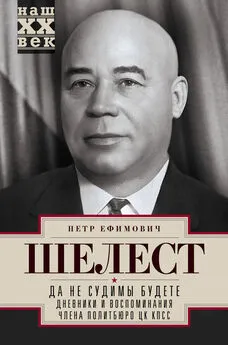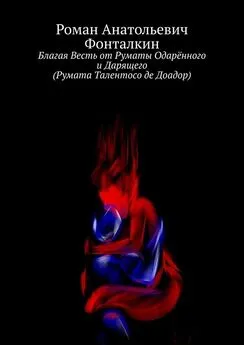Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Название:Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя: Международная Ассоциация «Русская Культура»
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-355-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года краткое содержание
«Лик умирающего» — не просто мемуары о жизни и деятельности отдельного человека, это попытка проанализировать свою судьбу в контексте пережитых событий, понять их истоки, вскрыть первопричины тех социальных болезней, которые зрели в организме русского общества и привели к 1917 году, с последовавшими за ним общественно-политическими явлениями, изменившими почти до неузнаваемости складывавшийся веками образ Российского государства, психологию и менталитет его населения. Это попытка, одного смелого человека, заглянуть в «лицо умирающего больного», коим было Российское государство и общество, и понять, «диагностировать» те причины, которые приковали его к «смертному одру». Это публицистическая работа, содержащая в себе некоторые черты социально-психологического подхода, основанного на глубоком проникновении в социальные, культурные, поведенческие и иные особенности российского этноса.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как связал их Кочубинский в одно целое, и какие обвинения им предъявил — я не знаю, так как приговора военно-полевого суда не читал, но ссылки на него в Сухомлиновском приговоре показывают, что обвинения сообщникам предъявлялись в еще более туманных формах, чем то, которое так смутило свидетеля в Мясоедовском деле капитана Б.
Судя по тому, что ни единой смертной казни по этому делу вынесено не было, а обе женщины оправданы, надо думать, что творчество прапорщика Кочубинского было мало убедительным даже для суда, состав которого уже достаточно характеризуется замечанием Сухомлинова, что «не найдя „подходящего“ председателя, назначили таковым лицо, не имевшее по закону на это право, для чего не постеснялись испросить особое Высочайшее повеление».
По поводу приговора этого суда главнокомандующий западным фронтом юго-западным фронтом, честнейший генерал Алексеев 69 23-го февраля 1916 года писал начальнику штаба Великого Князя Николая Николаевича, генералу Янушкевичу: «Я не могу не придти к выводу, что между изложенным в приговоре и постановлением заключаются непримиримые противоречия: суд, признавая подсудимых виновными в тягчайшем преступлении, в шпионстве в военное время, в текущую войну, в пользу неприятеля, — в тоже время указывает, что деятельность названных лиц являлась полезной в период настоящей войны, а в отношении полковника Иванова — даже усиленно полезной. Такое исключительное противоречие в таких важных документах как приговор суда, я могу объяснить только тем, что полевой суд не смог разобраться во всех деталях дела и справиться с возложенной на него задачей, о чем неопровержимо и свидетельствует противоречие приговора и постановления».
Один из осужденных Бердичевским судом, Веллер, успел ранее других подать военному прокурору прошение о пересмотре его дела, и приговор военно-полевого суда в отношении его был отменен.
Приступая теперь к изложению того, как были использованы приговоры Варшавского и Бердичевского полевых судов, я прошу читателя снисходительно извинить мне те длинноты и подробности, которые могут показаться ему излишними и утомительными. В своей книге «Воспоминания» генерал Сухомлинов высказывает надежду, что найдется русский юрист, который честной оценкой всех обстоятельств дела восстановит его поруганную честь и опозоренное имя. Осуществить эту надежду без воспроизведения обвинительного материала в точности, как он изложен в приговоре суда сенаторов и кассационной жалобе, и без юридического анализа этих документов — невозможно. Творец обвинительных пунктов жив, находиться в эмиграции и конечно воспользуется всякой вольной редакцией, хотя бы и самой добросовестной, для своей реабилитации. Надо пользоваться потому неопровержимыми данными и передавать документы не своими, а их собственными словами.
Приговор Сената излагает предательство Сухомлинова в следующих пунктах:
Пункт 4 устанавливает, что генерал Сухомлинов «состоя в должности военного министра, в период времени с сентября 1911 до середины апреля 1912 года по соглашению с другими лицами, сообщал командированному в его, военного министра, распоряжение полковнику Мясоедову, заведомо для него состоявшему агентом Германии (курсив мой), такого рода вверенные ему, Сухомлинову, по занимаемой им должности, сведения, которые заведомо для него долженствовали в видах внешней безопасности России, сохраняться в тайнах от иностранного государства, а именно о результатах наблюдения контрразведывательного отделения главного управления генерального штаба за иностранными шпионами и о революционном движении в нашей армии».
Не надо быть юристом, чтобы понять невозможность обвинять кого-либо в краже без указания на то, когда, где и что именно было украдено. Такой же несообразностью является и обвинение Сухомлинова в выдаче им секретных сведений без конкретных указаний, где, когда и какие именно сведения он выдавал. Такое голословное обвинение открывало бы возможность в любой момент посадить на скамью подсудимых кого угодно и по обвинению в чем угодно. Но помимо того, приведенный пункт приговора считает основанием обвинения Сухомлинова в измене его участие со шпионом Мясоедовым. Не будь Мясоедов шпионом, не мог бы и Сухомлинов быть его соучастником. Поэтому обвинителям и было необходимо установить, что Мясоедов признан виновным в шпионаже, то есть том, что уже во время службы у военного министра Сухомлинова в 1911–1912 годах он состоял агентом германской разведки. Этот факт легче всего было бы обосновать, конечно, данными, опубликованными Гучковым в 1911 году, но это оказалось невозможным. Мясоедов был реабилитирован не только расследованием главного военного прокурора, он и публичным заявлением самого Гучкова. Оставалось одно — использовать приговор Варшавского военного суда.
При знакомстве летом 1917-го года с делом Мясоедова и этим приговором, мысль о подлоге у меня, конечно, не возникала, а потому с этой стороны я дела не изучал. В записках моих кратко отмечено, что по делу председательствовал Генерального штаба полковник Лукирский 70 . Фамилии и подписи других судей меня тогда не интересовали. Несомненно, однако, что вписание в Варшавский приговор целого пункта и переделка другого не могли бы быть мною не замечены. Между тем, как видно из категорического показания очевидца суда, капитана Б., в приговоре, им слышанном и объявленном Мясоедову, пункта о шпионах в 1907–1912 годах не было вовсе. Его, конечно, и не могло в нем быть, по той простой причине, что заседавший в Варшаве в 1915 году военно-полевой суд не имел ни средств, ни возможности входить в оценку деятельности и поступков Мясоедова, совершенных им много лет тому назад в Петербурге во время службы в военном министерстве. При таких условиях нельзя не придти к заключению, что подлинный приговор варшавского военно-полевого суда был изъят из дела и замен другим, специально приспособленным для обоснования предательств Сухомлинова.
Как видит читатель, «ловкость рук» применялась у нас еще до замены сенаторских мундиров кожаными куртками.
По пункту 6 Сухомлинов обвинен «в том, что, состоя в должности военного министра, после объявления Германией войны России 29-го июля 1914-го года в письме, составленном им и врученном подполковнику Сергею Мясоедову, заведомо для него, Сухомлинова, состоявшему агентом Германии (курсив мой) удостоверение отсутствия с его, военного министра стороны препятствий к определению Мясоедова на действительную службу и тем оказал содействие к вступлению последнего в действующую армию и продолжению указанной его, Мясоедова, преступной изменнической деятельности, осуществленной им затем посредством собирания сведений о расположении наших войсковых частей, каковыми действиям он, Сухомлинов, заведомо благоприятствовал Германии в ее военных против России операциях».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: