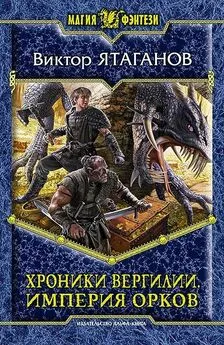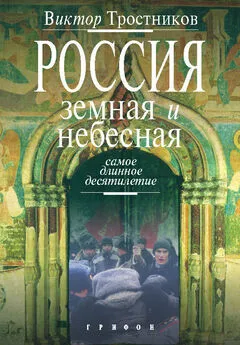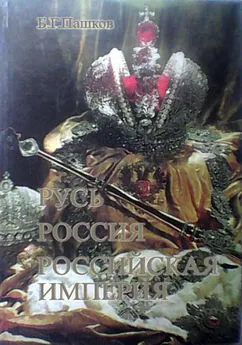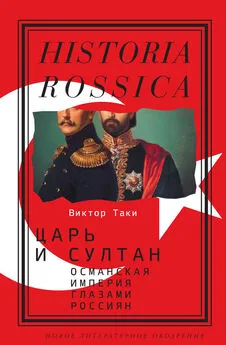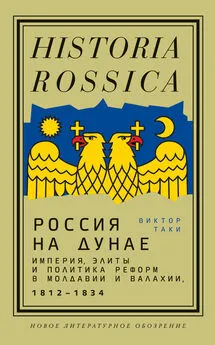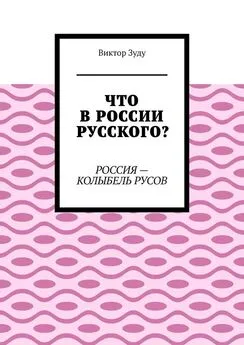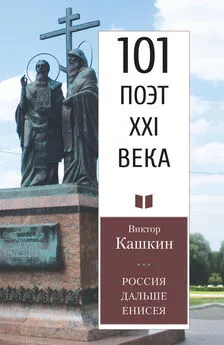Виктор Таки - Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 [litres]
- Название:Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814796
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Таки - Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 [litres] краткое содержание
Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, в 1808 году председательствовавший в диванах сенатор Кушников находил, что воздух в Яссах «в величайшей степени тяжел» ввиду многочисленных захоронений вблизи церквей, осуществлявшихся в пределах городской черты. Мелкие могилы и обычай выкапывать покойников для повторной погребальной службы вызывали «опасные прилипчивые болезни». Для исправления ситуации Кушников приказал перевести все кладбища за пределы городской черты [872] Кушников – диванам Молдавии и Валахии. 9 марта 1809 г. // ANRM. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 4–6 об.
. Глава временной российской администрации нашел энергичного и способного помощника в лице молдовлахийского экзарха Гавриила. Последний предложил создать четыре огражденных каменной оградой кладбища вокруг каждой из столиц и приписать каждый столичный приход к одному из них, а также запретить священникам совершать погребения внутри городской черты [873] Митрополит Гавриил – Кушникову. 7 марта 1809 г. // ANRM. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 3.
. Спустя год, однако, Гавриил жаловался на то, что, несмотря на приказ Кушникова Молдавскому дивану, городская полиция ( agia ) предпочла отложить исполнение этой непопулярной меры [874] Митрополит Гавриил – Красно-Милошевичу. 13 июня 1810 г. // Там же. Л. 14–14 об.
.
В. И. Красно-Милошевич, сменивший Кушникова в марте 1810 года, застал Яссы и Бухарест все еще лишенными нормальных кладбищ. Сопротивление местного населения было столь велико, что сенатор должен был обратиться ко всему боярскому сословию с требованием убедить жителей в необходимости предлагаемых мер. Красно-Милошевич находил погребальные обряды молдаван и валахов полными суеверий и настаивал на том, что приказы переместить кладбища за пределы городской черты «нисколько не могут нарушить постановления, существующие на отправление христианской веры» [875] Красно-Милошевич – Молдавскому дивану. 10 ноября 1810 г. // Там же. Л. 29.
. Однако недовольство жителей было столь сильным, что сенатору пришлось отложить исполнение задуманного до весны 1811 года, когда на каждом из новых кладбищ была построена церковь для служения панихид [876] Отчет коменданта Ясс Красно-Милошевичу. 16 апреля 1811 г. // Там же. Л. 36–36 об.
.
В то же время роль России в истории чумных эпидемий в Молдавии и Валахии довольно противоречива. Русско-османские войны вызывали разорения и голод, которые повышали вероятность начала эпидемий. Так, вскоре за выводом российских войск из княжеств в 1812 году последовала наиболее крупная эпидемия чумы в истории Валахии, повлекшая 24 тысячи жертв [877] Nistor. Ravagiile epidemiilor de ciumă şi holeră. P. 370.
. Чума появилась вновь в османской крепости Брэиле и в Бессарабии в 1819 и 1824–1825 годах. О том, что российские границы продолжали оставаться уязвимыми для проникновения чумы, свидетельствует сохранение карантина на Днестре в течение 18 лет после присоединения Бессарабии к России [878] В 1825 г. Киселев составил записку, в которой указывал на неспособность гражданских властей Бессарабии пресекать тайные сношения между правым и левым берегом Прута и Дуная, что делало область уязвимой для чумы. Киселев также указывал на необходимость создания особой пограничной службы, составленной из солдат-ветеранов. См.: Записка генерал-адъютанта Киселева об устроении постоянной стражи на границе турецких владений. 1 ноября 1825 г. // Епанчин. Очерк похода 1829 г. Т. 1. С. 36–41 (отдельная пагинация).
. В 1826 году случаи чумы вновь были зафиксированы в Бухаресте и его окрестностях. Они повлекли за собой дискуссию среди местных медиков относительно природы болезни. Так называемые «контагионисты» полагали, что болезнь эта была действительно чумой ( Pestis Orientalis Bubonica ), принесенной Османами из Египта, и предлагали соблюдать строгие карантинные меры. «Контагионистам» противостояли те, кто полагал, что болезнь местного происхождения и представляет собой разновидность южного тифа ( Typhus Australis ), порожденного особым «эпидемическим состоянием атмосферы» [879] Зейдлиц К. О чуме, свирепствовавшей во второй русской армии во время последней войны в 1828–1829 гг. СПб.: Греч, 1844. С. 19, 64–65; Витт Х. О свойствах климата Валахии и Молдавии и о так называемой Валашской язве. СПб.: Греч, 1842. С. 13, 78–79.
.
Валашский господарь Григоре Гика последовал совету «контагионистов» и в августе 1827 года приказал следовать карантинной политике. После начала Русско-османской войны главнокомандующий Витгенштейн создал Бухарестскую чумную комиссию под председательством статского советника Пизани. Однако противоэпидемические меры, принимаемые российскими властями, оставались нескоординированными и малоэффективными. По свидетельству медика штаба 2‐й армии Христиана Яковлевича Витта, каждый дивизионный и полковой лекарь действовал по-своему и «при многих так называемых карантинах учрежденных в каждой деревне, при каждом полку, нельзя было видеть для чего оные учреждались, для того ли, чтоб отвращать вторжение чумы в какое либо место, или для того, что бы противостоять выпуску ея и распространению» [880] Там же. С. 174–175.
.
После занятия российскими войсками Молдавии и Валахии российские медики вступили в спор местных «контагионистов» и «антиконтагионистов», который очень скоро перестал представлять чисто медицинский интерес. Карантины были единственной эффективной мерой, если болезнь являлась действительно чумой. Если же речь шла не о чуме, а о местной лихорадке, порожденной климатом княжеств, карантины были не просто бесполезны, но и вредны, поскольку они держали людей долгое время в нездоровых местах вдоль дунайских плавней. Официальное определение болезни имело серьезные моральные, политические и военные последствия. Уже в XVIII столетии российские командующие предпочитали не объявлять о чуме до тех пор, пока ситуация не становилась по-настоящему угрожающей, из опасения, что сообщения об эпидемии вызовут панику среди войск и местного населения [881] Samarian . Din epidemologia trecutului românesc. P. 137.
. Не могло им нравиться и ограничение подвижности российских войск, неизбежно следовавшее за установлением карантинов.
Эти соображения, а также неэффективность карантинов 1828 года объясняют резкую смену подхода в январе 1829 года. Накануне начала новой кампании «антиконтагионист» Витт сменил сторонника карантинов Ханова в качестве главного медика штаба 2‐й армии [882] Зейдлиц . О чуме, свирепствовавшей во второй русской армии. С. 83.
. Одновременно Бухарестская чумная комиссия была переименована в Главную комиссию по борьбе с заразой, а болезнь отныне считалась «заразительной горячкой с сомнительными признаками» [883] Витт . О свойствах климата Валахии и Молдавии. С. 173.
. Члены комиссии объясняли, что бубоны у заболевших «суть следствия сношения солдат с непотребными женщинами, трудных работ при сырой погоде и худой пище» [884] Зейдлиц . О чуме, свирепствовавшей во второй русской армии. С. 82.
. Последовавшая затем отмена карантинов повысила мобильность войск, что помогло российской армии нанести поражение османским силам. Однако победа была достигнута большой ценой: количество умерших от болезни в 1829 году, по официальным данным, выросло до 24 560 человек, из которых 8600 пришлось на российские войска [885] Отчет генерал-адъютанта Киселева по управлению Молдавиею и Валахиею с 15 ноября 1829 по 1 января 1830 г. // Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 4. С. 119.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктор Таки - Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812—1834 [litres]](/books/1143911/viktor-taki-rossiya-na-dunae-imperiya-elity-i-poli.webp)