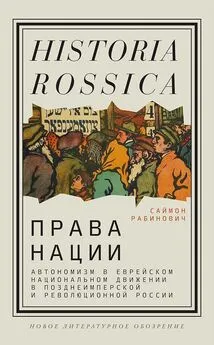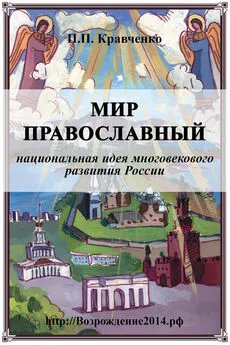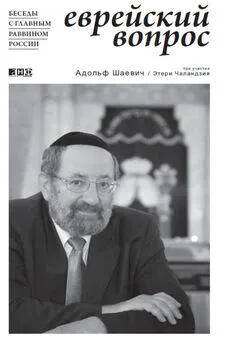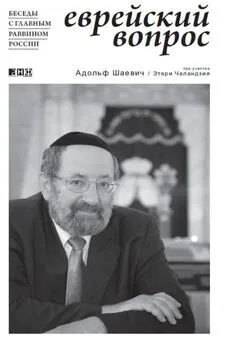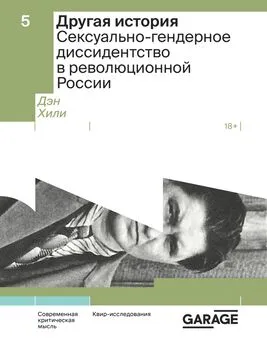Саймон Рабинович - Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
- Название:Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Саймон Рабинович - Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России краткое содержание
Саймон Рабинович преподает в Северо-Восточном университете (Бостон, США), специалист по истории евреев в России, Европе и США.
Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кого бы ни винило российское правительство в растущем сопротивлении режиму, имперская спесь вкупе с политическими просчетами и неудачами в 1904–1905 годах окончательно подорвали доверие к власти. Унизительное поражение в Русско-японской войне, расстрел мирной демонстрации в январе 1905 года, вошедший в историю как Кровавое воскресенье, и прокатившаяся вслед за ним волна рабочих стачек, по сути, ставили монарха перед выбором: либо революция, либо политические уступки. Чтобы дать выход недовольству, но не доводить до беспорядков, Николай II предложил создать законосовещательное собрание (так называемую Булыгинскую думу), однако «поблажка» не остановила освободительное движение, объявившее проект бессмысленным и несправедливым: он не предполагал ни свободы слова, ни свободы собраний, ни неприкосновенности личности. Кризис охватил всю страну, представители национальных меньшинств, рабочие и либеральная оппозиция ужесточали требования, и в конце концов царь под давлением тогдашнего премьер-министра Сергея Витте издал манифест 17 октября 1905 года, которым «даровал… гражданские свободы» и наделил Думу законодательной властью [277].
Казалось бы, для российских евреев наступило «время больших надежд», но оно обернулось «годиной страшных испытаний»: сразу после обнародования манифеста по всей стране прокатились начатые правыми националистами и монархистами погромы, жертвами которых одна за другой становились еврейские общины. Официально власти не поддерживали антиеврейское насилие, но при этом почти ничего не делали, чтобы его остановить, и по размаху оно превзошло все прежние: за короткий срок было убито более 3000 евреев [278]. Николай II явно пытался найти оправдание происходящему. «Революционеры снова разозлили народ, — объяснял он в письме к матери, — а поскольку девять десятых бунтовщиков — евреи, народ направил против них свой гнев. С того и начались погромы. Поразительно, что во многих российских городах они случились одновременно» [279].
Нападки со стороны правительства и погромы избавили евреев от иллюзорных надежд на возможность более глубокой интеграции и одновременно укрепили решимость еврейских либералов добиваться равноправия и требовать коллективных прав. Между 1903 и 1905 годами даже та часть еврейской интеллигенции, которая прежде участвовала в общероссийском народническом и социал-демократическом движении, постепенно воспринимает националистические идеи [280]. Вместе с тем следует помнить, что до 1905 года немалая часть политически активной еврейской интеллигенции жила в изгнании за границей, а Бунд и сионисты находились на нелегальном положении. С началом революции ситуация меняется: открыто заявляют о себе новые еврейские политические объединения и кружки, одновременно радикализируются уже существующие партии. Если прежде значительная часть либерального российского еврейства относилась к национализму скорее скептически, сейчас погромы напомнили, что одного лишь гражданского равноправия недостаточно для того, чтобы защитить народ. Однако требование национальных прав, равно как и автономистские идеи, громко прозвучало только в тот момент, когда различные еврейские политические партии, фракции, объединения начали составлять программы для участия в первых в истории Российской империи парламентских выборах. Автономистские устремления, мало-помалу завладевавшие умами российского еврейства, вкупе с открывшейся возможностью участия в представительной власти даже у пылких сторонников интеграции пробуждали если не националистические порывы, то по крайней мере новое чувство принадлежности к собственному народу.
Федерализм на марше
В самом начале революции 1905 года вспыхивают волнения в Польше, в прибалтийских губерниях, в Финляндии, Грузии, в белорусских и украинских губерниях. С началом революции на периферии (особенно в северо-западных частях империи) возникают выступающие за демократизацию и автономию национальные партии. Протесты и забастовки подтолкнули имперскую власть к более жестким репрессиям, но, с другой стороны, они заставили правительство пойти на некоторые уступки. Андреас Каппелер назвал революцию 1905 года «весной народов», подобной революционным движениям, охватившим Европу, но не затронувшим Россию в 1848–1849 годах [281]. По мнению Каппелера, историки явно недооценивают, насколько сильна была национальная составляющая забастовок и мятежей, вплоть до осени 1905 года сотрясавших западные регионы и Закавказье и едва не дошедших в некоторых местах до гражданской войны. Кровавые мятежи в Лодзи и Варшаве, крестьянские бунты на Украине, сотни сожженных замков остзейских баронов, создание Гурийской крестьянской республики в Грузии — эти и другие национальные движения подавлялись гораздо безжалостнее, чем русские «смуты»: власть боялась распада империи. Протесты были вызваны не только нищетой; они подогревались отказом мириться с языковой и религиозной дискриминацией. Революционный взрыв, вызванный соединением этих «элементов», сотряс царский престол — и одновременно вызвал к жизни новые, четко сформулированные национальные и политические устремления [282].
Пробуждение национального самосознания у подданных империи, включая русских, во многом было обусловлено всеобщей политизацией, хотя и происходило оно неравномерно. В короткий период политической либерализации после революции 1905 года открывается возможность открыто заявлять и отстаивать национальные требования на площадке, созданной благодаря этой революции, — в Думе. В основе всех федералистских и автономистских идей, сформулированных перед революцией, лежало общее убеждение: Россия должна стать свободным государством, конституционным или социалистическим. Так, например, литовско-польский Ирредентистский кружок ( Lietuviu ir lenku irredentu kuopa ), известный как «крайовцы» и созданный в декабре 1904 года литовскими и польскими демократами из Вильно, настаивал, чтобы российская конституция основывалась на «свободном объединении тех стран (в их этнографических границах), население которых провозглашает самостоятельность своего народа и требует автономии (Литва, Польша, Финляндия и Украина)» [283]. При этом польские члены группы признавали, что Вильно может стать частью «этнографической» Литвы, а их права будут конституционно защищены благодаря образованию автономной Польши [284]. За автономию и последующую политическую независимость выступали обе литовские партии: основанная в 1896 году Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) и созданная в 1902 году Литовская демократическая партия [285]. В ноябре 1905 года по инициативе национал-демократов состоялся Великий Вильнюсский сейм, на который при поддержке литовской диаспоры в США съехались литовцы со всех концов империи. Участники сейма единодушно признали, что первым шагом к независимости должна стать национальная автономия Литвы, однако их представления о том, как ее достичь, расходились [286]. Литовские демократы (после конгресса партия была преобразована в либеральную Национальную литовскую демократическую партию) в своей новой программе, принятой в 1906 году, отстаивали интересы литовского еврейства, в частности предлагали признать идиш официальным языком и выступали за пропорциональное распределение расходов на народное образование [287]. В ноябре 1905 года на национальных сеймах выступили с требованием национальной автономии эстонцы и латыши [288]. Обе основанные в 1890 году ведущие польские партии — Национал-демократическая партия Польши, у истоков которой стоял Роман Дмовский, и социалисты во главе с Йозефом Пилсудским — также заявили, что национальная автономия есть необходимое условие будущей независимости. Во время революции 1905 года их требования поддержала часть русских социалистов и либералов [289]. Помимо требования ввести губернское, уездное и волостное самоуправление, принятая в 1905 году программа польских социал-демократов отстаивала «равенство всех наций, живущих под властью Российской империи, с гарантией их свободы и культурного развития, включая национальные школы и свободное употребление языков, а также государственную автономию для Польши» [290]. Сторонникам украинской автономии в 1905 году пришлось гораздо труднее, поскольку даже самые либеральные из русских национальных движений категорически отказывались принять саму мысль о возможном отделении земель, которые они считали исконно русскими. Тем не менее, несмотря на «борьбу с сепаратизмом», развернувшуюся в киевской русскоязычной прессе, а также вопреки существовавшему запрету на украиноязычные издания, в 1905 году появляется несколько украиноязычных газет и создается общество «Просвита», призванное способствовать созданию и распространению национальной культуры [291].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: