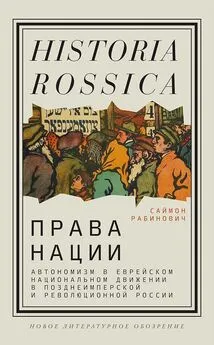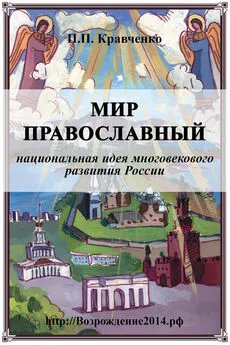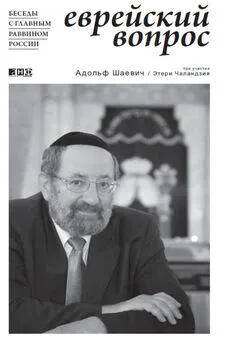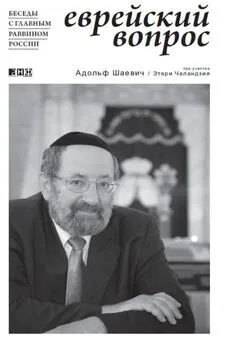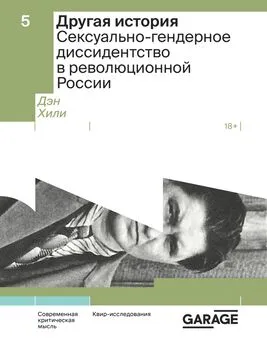Саймон Рабинович - Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
- Название:Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Саймон Рабинович - Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России краткое содержание
Саймон Рабинович преподает в Северо-Восточном университете (Бостон, США), специалист по истории евреев в России, Европе и США.
Права нации: Автономизм в еврейском национальном движении в позднеимперской и революционной России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В наше время мы должны были уже научиться смотреть на нашу общину не только как на пережиток исторических времен, но и как на основную ячейку нашей будущей национально-автономной организации. Было бы наивно представлять себе переход от нашего современного положения к автономной национальной жизни как прыжок из царства национального рабства в царство национальной свободы. Необходимое предварительное условие для такого перехода — возведение и укрепление фундамента, на котором зиждется всякий национальный союз. Для национальных же меньшинств таким фундаментом является национальная община, составляющая тот тесный круг, в котором вращается личность со своими национальными правами и обязанностями. Укрепление нашей общинной организации, расширение и объединение ее деятельности является, таким образом, одной из необходимых исторических предпосылок для наших дальнейших национальных завоеваний [484].
Позиция Бунда в полемике об организации и реформе общины сводилась к критике полной еврейской автономии; в общине бундовцы видели прежде всего языковую и культурную общность, что со всей очевидностью ограничивало ее сферы влияния. В 1909 году Владимиру Медему удалось отчасти смягчить неприятие автономистских тенденций и убедить своих товарищей по партии начать дискуссию о границах и сферах общинной власти. Как заметил Дэвид Фишман, до этого Медем и его единомышленники старательно избегали понятий «кегила» и «община»; создавалось впечатление, «будто они имеют в виду нечто более узкое — своего рода еврейскую культурно-образовательную ассоциацию» [485]. Однако в 1910 году бундовское периодическое издание «Цайт-фраген» («Современные вопросы», идиш ) публикует статьи В. Медема и А. Литвака, в которых идет речь о сфере ответственности общины, а также обсуждаются критерии принадлежности к ней. Подобная смена тактики была вызвана прежде всего упадком популярности Бунда, как, впрочем, и других социал-демократических партий [486]. Это признавал и Медем [487]. В воспоминаниях о том, как в 1908–1909 годах ему ради заработка приходилось писать для внепартийных изданий, он прямо говорит, что в эти годы все дела «катились под откос» и его партия переживала тяжелый кризис: «…Множество людей вышли из нашего движения. Сотни рабочих уехали в Америку. Интеллигенция сбежала почти вся» [488]. Действительно, из-за эмиграции, преследований и общего разочарования численность партии сократилась с 33 890 членов в 274 местных ячейках в 1906 году примерно до 2000 человек, представлявших 10 местных организаций в 1910-м [489]. По словам Литвака, «уже в 1908 году не осталось почти никого, с кем можно было говорить о кризисе. Организации или рассыпались, или впадали в глубокую зимнюю спячку» [490]. Не случайно на малочисленной бундовской конференции 1908 года так называемым легалистам (членам Центрального комитета партии, предпочитавшим легальную деятельность подпольной) удалось одержать победу над оппонентами и заставить конференцию принять решение об участии Бунда во всех формах общинной деятельности в надежде хотя бы так восстановить утраченное политическое влияние [491]. Впрочем, как замечает Владимир Левин, чем бы ни оправдывались социалисты, они, стремясь участвовать в общинном управлении и реформах, невольно приспосабливались к буржуазному «мейнстриму» [492].
Стремительный отток сторонников Бунда побудил некоторых членов партии, например Литвака, выступить с резкой критикой сформулированного Медемом принципа «нейтрализма», в те годы основной теории Бунда по национальному вопросу. В 1910 году Медем пересмотрел свои взгляды в пользу более активной «национально-культурной» деятельности (но не национализма) [493]. Бунд, как и прежде, относился к еврейскому национализму крайне осторожно и прагматично. В частности, Медем оговаривал, что даже «культурные общества» (он именовал их немецким словом Kulturgemeinschaft ) вовсе не обязаны оставаться в рамках еврейской общины. Не менее остро его беспокоили попытки вывести еврейский политический национализм на международный уровень во имя создания «всемирной еврейской нации»; эту идею он неоднократно называл «фетишем еврейских националистов» [494].
Если не считать Бунда, практически все — как радикальные, так и умеренные — реформаторы еврейской общины стремились продемонстрировать ее неразрывную связь с уже существующими общинными структурами. Отчасти это делалось для того, чтобы внедрить в общественное сознание идею еврейского самоуправления — и одновременно побудить активистов создавать общинные структуры еще до того, как они будут легализованы. Так, например, в 1913 году несколько влиятельных сторонников автономизма создали журнал «Вестник еврейской общины», задуманный как пространство общественной дискуссии о том, какой надлежит быть общине. В журнале, основанном Дубновым, Зильберфарбом и другими, более радикальными еврейскими автономистами, но издававшемся на средства Слиозберга, предполагалось подчеркивать преемственность общинного самоуправления и одновременно отстаивать необходимость дальнейших реформ. Иными словами, редакторам хотелось показать традиционность самоуправления и в то же время его новизну. С одной стороны, говорилось в программной статье «Наши задачи», абсолютно новым стало признание общинного самоуправления еврейской интеллигенцией: «Долгое время интеллигенция наша, отчасти под влиянием того, во что выродилась община с сороковых годов, отчасти под влиянием идеи гражданственности, ложно противопоставленной идее общинного самоуправления, отрекалась совершенно от общины» [495]. Сейчас, продолжали они, «среди представителей различных общественных групп и разнообразных идейных течений все чаще и громче слышится голос: „Назад, к общине!“ Назад к той организации, которая исстари служила нам щитом от врагов и кровлей для культурного творчества» [496]. А с другой стороны, подчеркивали издатели, общинному самоуправлению удавалось выжить, даже когда интеллигенция презрительно отвергала общину. Евреи всегда довольствовались имеющимися правовыми условиями, так должно быть и впредь:
Мы стремимся к реорганизации еврейской общины законодательным путем на новых началах, мы хотим расширить ныне суженные права и функции ее. Но пока, до того времени, как можно будет осуществить эту полную реорганизацию, мы должны руководствоваться действующим законодательством и, насколько оно нам позволяет, укрепить и обновить существующую еврейскую общину [497].
Первый номер открывала статья Дубнова, в которой предпринималась попытка описать и осмыслить кризис общинного самоуправления, охвативший как Западную, так и Восточную Европу. На Западе, писал он, «кризис был связан… с приспособлением былой автономии к новому строю, к эмансипации» [498]. Она, в свою очередь, привела к тому, что сузилась сфера самоуправления, общины, по сути, слились с синагогальными структурами и в значительной степени утратили былую власть, тем более что многие их функции приняли на себя гражданские институты [499]. В России же, по мнению Дубнова, отсутствие эмансипации создало особые условия для еврейского самоуправления даже без правовой базы: «Иное мы видим в российском центре еврейства. Здесь община должна была приспособляться к господствующему режиму гражданского бесправия » [500]. Дубнов видел, что автономистские идеи проникают даже в полностью эмансипированные общины, как, например, в Берлине, где евреям пришлось в течение долгого времени восстанавливать национальные права. Рано или поздно, писал он, эти идеи будут восприняты в России, однако в данный момент для нее более актуальны другие задачи: «…бороться против давно начавшегося распада общины, вызванного не только разгромом извне, но и равнодушием еврейской интеллигенции к широким запросам общинной жизни» [501].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: