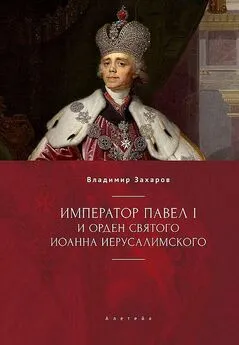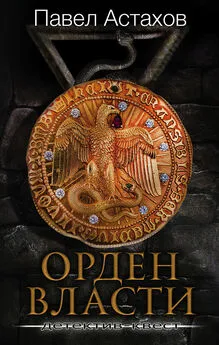Михаил Медведев - Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России
- Название:Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КультИнформПресс
- Год:1995
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8392-0102-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Медведев - Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России краткое содержание
В сборник вошел ряд независимых научных исследований, выполненных по заказу РГК «Русское видео» авторами, никак не связанными с Санкт-Петербургской приорией Ордена.
Авторы статей поставили перед собою цель решения некоторых проблем, связанных с личностью императора Павла I как гроссмейстера Ордена, а также вопросов, возникших в связи с переводом орденских управленческих структур в Россию. В статьях отражен новый взгляд на императора и его деятельность, очищенный от тенденциозных искажений, сложившихся еще при его жизни не без влияния Екатерины II.
Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем 1 января 1798 года последовало Высочайшее утверждение первого тома Общего гербовника и приложенного к нему манифеста, установившего достаточно строгие правила геральдического учета в России: «Все гербы в Гербовник внесенные оставить навсегда непременными так, чтоб без особливого НАШЕГО, или Преемников НАШИХ повеления, ничто ни под каким видом из оных не исключалось и вновь в оные не было ничего прибавляемо». [113] Общий Гербовник… Ч. 1. СПБ., 1797. С. 6. В Гербовник вносились родовые, а не личные гербы Почести персонального, временного характера учету в Гербовнике не подлежали; если же им случалось попасть в него, они приобретали наследственный характер, как это было в случае с графами Чернышевыми (там же, № 20) — медальоны с портретами Петра I, пожалованные им Григорию Петровичу Чернышеву и зафиксированные в дипломе Елизаветы I на имя последнего, по недосмотру оказались внесены в Гербовник и перепожалованы всему роду.
Разумеется, это установление следует толковать в контексте геральдической традиции. Недозволение исключать что-либо из герба не означало того, что герб нельзя изображать в сокращенном виде (например, без намета, без шлема, в некоторых случаях — с упрощенной композицией щита и т. д.). Точно так же строгие формулировки манифеста не воспрещали включать в герб орденские знаки (по крайней мере высочайше дозволенные к ношению в России) и традиционные должностные атрибуты (из числа которых, впрочем, в России были привычны только фельдмаршальские жезлы). Этот же принцип, истолкованный в духе XXXVI статьи русско-мальтийской конвенции, позволял российским бальи Ордена вводить capo dell'Ordine в свои гербовые щиты, не нарушая геральдического законодательства империи.
Ярким примером может послужить герб князя Александра Борисовича Куракина — того самого, который в детстве играл с маленьким Павлом Петровичем в «кавалеров мальтийских». В 1797 году князь, уже в чине вице-канцлера вместе с Безбородко представлял российскую сторону при подписании конвенции с Орденом. Брату же его, генерал-прокурору Алексею Борисовичу, было поручено руководить составлением Общего гербовника. Вскоре князь Алексей оказался в немилости; но это не помешало родовому гербу Куракиных попасть в первый том Гербовника и получить утверждение 1 января 1798 года. [114] Общий Гербовник… Там же, № 3. Щит разбит начетверо; в первой и четвертой червленых частях серебряный орел с золотыми вооружениями (измененный герб Польши), во второй, серебряной, — стоящий на золотой оконечности золотой с пурпурными подушкой и спинкой трон, на сиденье которого поставлены накрест золотые скипетр, завершенный крестом, и крест на длинном древке; трон завершен во главе золотым подсвечником с тремя горящими свечами естественных цветов и сопровожден по сторонам черными восстающими медведями, поддерживающими скипетр и крест (версия герба Великого княжества новгородского); в третьей, лазоревой, — серебряный крест, три верхних плеча которого уширены, поставленный на опрокинутом золотом полумесяце с ликом; в оконечности — серебряная шестиконечная звезда (измененный герб «Корибут»); в червленом сердцевом щитке — воин в латах и шлеме, воздевающий саблю с золотым эфесом, при золотом щите, скачущий на серебряном коне, покрытом червленой попоной (версия герба Великого княжества литовского). Щит окружен пурпурной мантией с золотыми бахромой и кистями на шнурах, подбитой горностаем и увенчанной княжеской шапкой. Куракиными, в том числе и Александром Борисовичем, не раз употреблялись версии герба, не вполне совпадающие с высочайше утвержденной, однако эти отступления воспринимались как несущественные и не были намеренными.
К этому времени (с апреля 1797 года) князь Александр уже был почетным бальи и кавалером Большого креста Державного ордена. Впоследствии, в 1801 году, ему довелось возвыситься до конвентуальнго бальи и великого канцлера. На протяжении своей орденской карьеры князь неоднократно пользовался своим родовым гербом, дополненным capo dell'Ordine , орденским знаком на ленте и крестом позади щита. [115] Описываемые версии известны по гравированным портретам князя.
Апелляция к прецедентам требует осторожности. Необходимо учесть, что соблюдение геральдических норм, провозглашенных в манифесте 1 января 1798 года, оставляло желать лучшего. Гербовник составлялся медленно — это было естественным затруднением. Тревожнее было то, что не утвержденные версии утвержденных гербов продолжали употребляться во множестве. Достаточно упомянуть еще два выдающихся русских семейства, связанных с Орденом, — графов Шереметевых и князей Юсуповых. Их гербы мы находим соответственно во второй и третьей частях Общего гербовника, утвержденных в 1798–1799 годах. Тем не менее история употребления гербов обоих семейств на протяжении всего XIX столетия была буквально переполнена геральдическими недоразумениями. [116] Употребляя свой родовой герб с постоянными изменениями и искажениями, графы Шереметевы порой включали в его композицию мальтийский крест. Так, на экслибрисе графа Александра Дмитриевича (1859–1931) были изображены гербовый щит рода (не вполне точно воспроизведенный) и за ним — крест обетного рыцаря, коронованный графской короной. Несомненно, эта эффектная, но геральдически нелепая композиция должна была указывать на родоначальника графской ветви рода, фельдмаршала Бориса Петровича, бывшего первым российским кавалером Державного ордена. Сам Борис Петрович помещал крест обетного рыцаря в составе собственного герба (см.: Тройницкий С. Н . Гербы потомства Гланды Камбилы.//Гербовед, 1913, № 1), хотя и был лишь почетным рыцарем, а потому, строго говоря, не имел на такой герб права.
Во всем отразилась гербовая неграмотность большинства подданных Павла I; но прежде всего ответственность за беспорядок ложится на тех, кто работал непосредственно над составлением Гербовника и не сумел привести его в равновесие с живой практикой и нуждами российского дворянства. [117] Речь прежде всего идет о сенаторе О. Козодавлеве и ваппенрихтере (гербовом судье) М. Ваганове.
Некоторое количество геральдических огрехов и нарушений неизбежно при любом массовом употреблении гербов. Ни в истории Державного ордена, ни других европейских государств мы не найдем ничего похожего на абсолютную геральдическую правильность. И все же было бы ошибкой смешивать нарушения, даже самые типичные, с нормами, хотя бы и плохо соблюдавшимися.
Выше уже шла речь о «мальтийской» версии герба князя А. Б. Куракина. Она вполне обыкновенна для российских приоратов, члены которых претендовали на право быть свободными от обетов и в то же время пользоваться крестом за щитом, как «настоящие», монашествующие госпитальеры. [118] В польской, а затем в российской ветви Ордена пренебрежение требованием целибата привело к тому, что нагрудный крест стал употребляться всеми кавалерами по праву, а также командорами и бальи в обоих великих приоратах. Собственно, непринесение обета безбрачия этими категориями рыцарей было местной особенностью. В провинциях Ордена, сохранявших традиционный уклад, нагрудный крест сохранял значение «обетного». В наши дни право на нагрудный крест, несколько отличающийся от обычного, имеют также так называемые рыцари послушания, не приносящие обета безбрачия. Однако помещать этот крест за гербовым щитом они не вправе.
Орденские четки, как очевидно иноческий атрибут, обычно не использовались теми российскими рыцарями, которые не приносили обетов. Были и исключения — например, в гербе графа Юлия Литты-Висконти-Арезе, бальи, рыцаря по праву ( de justice ). Перейдя из итальянского языка в англо-баварский и став бальи и командором Великого приората Российского, Литта в 1798 году женился на вдове последнего графа Скавронского. Но в его гербе по-прежнему находилось место не только для capo dell'Ordine и креста за щитом, но и для белого розария. [119]
Интервал:
Закладка:
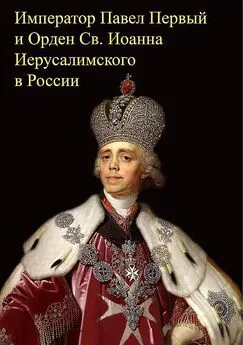
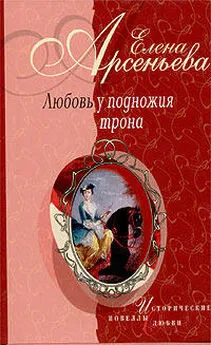

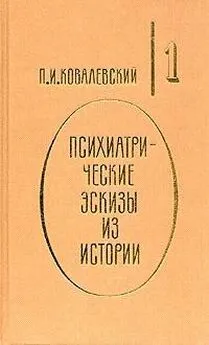
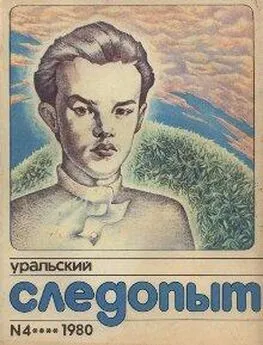

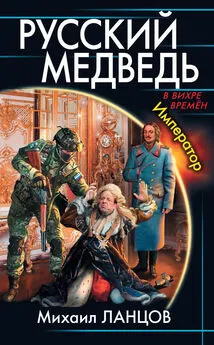
![Михаил Боков - Дед [Первый роман о черных копателях России]](/books/1091733/mihail-bokov-ded-pervyj-roman-o-chernyh-kopatelyah.webp)