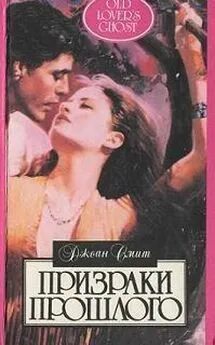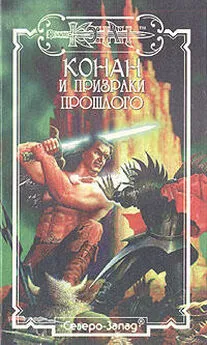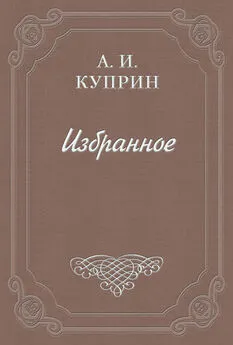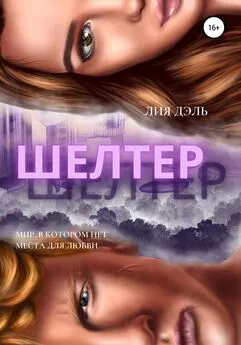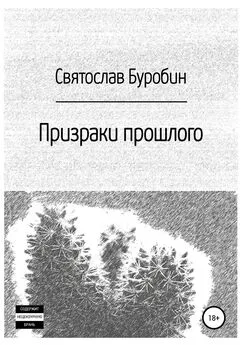Моника Блэк - Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
- Название:Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9570-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Моника Блэк - Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии краткое содержание
Книга полна примеров, связанных с конкретными судьбами, повествование легко воспринимается и захватывает не меньше иного мистического триллера.
Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По словам Фишера, около 25 % корреспондентов заявляли, что врачи оценили их состояние как неизлечимое. Другие страдали от «хронических недугов, которые… коренились в seelische причинах». Фишер охарактеризовал многих из тех, кто писал Грёнингу, как «духовно дезориентированных». Они «не видели выхода», чувствовали ужасное одиночество, думали о суициде и не имели «никого, кому могли бы доверять». Один писавший охарактеризовал свою жену как herzkrank {9} 9 Нем.: буквально — «больная сердцем». — Прим. пер.
— павшую духом — после потери дочери. Другая женщина поведала, что ее дочь изнасиловали восемь раз, с тех пор она больна и отказывается есть [279] «Briefe an Gröning — ein Alarmsignal!» Revue , September 18, 1949, p. 10.
.
Для большинства врачей в 1949 г. болезни не существовало, если у нее не было «органической причины». Если пациенты жаловались на боль, у которой нельзя было обнаружить очевидного физического основания, врачи искали другие объяснения. В отличие от проблемы хронической боли в наши дни, эти объяснения могли бросать тень на нравственную конституцию страждущего, предполагать наследственный дефект или намекать на отсутствие моральных устоев [280] Arthur Kleinman et al., «Pain as Human Experience: An Introduction», in Mary-Jo DelVecchio Good et al., eds., Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective (Berkeley: University of California Press, 1992), 5–6.
. Возможно, пациент — симулянт, выклянчивающий пособие по инвалидности, либо ему не хватает стойкости или силы характера, чтобы пережить тяжелые времена. Может быть, пациент слишком чувствителен или слабоволен, а может, с ним или с ней уже что-то было не так до войны [281] Goltermann, Die Gesellschaft der Überlebenden , 165–216.
.
Письма Грёнингу, по убеждению Фишера, со всей ясностью свидетельствовали о том, что мнение врачей традиционного направления об узкой применимости психосоматической медицины необходимо пересмотреть. Описываемые болезни не были фантомными болями: это были очевидные физические нарушения, имеющие истоки в душевном состоянии человека. Индивидуальные рассказы о страданиях раскрывали то, что Фишер назвал эффектами «массовой судьбы»: «ночи под падающими бомбами, бегство и голод, павшие отцы, павшие сыновья, нападения и изнасилования».
Грёнинг, заявил Фишер, продемонстрировал, что психосоматические болезни являются «эпидемией нашего времени». Письма, безусловно, документируют истории бедствий индивидов, но также обнажают, по его выражению, «историю бедствий Германии». Люди, чьи конечности вдруг перестают двигаться, кто мучается от болей в желудке или имеет детей с отказавшими почками, — все они продукт не столько индивидуального опыта, предположил врач, сколько коллективной судьбы нации. Они являются «реакцией на сверхтяжелое бремя», представляющее собой «результат событий последних лет» [282] «Briefe an Gröning — ein Alarmsignal!», Revue , 10, 19.
.
Здесь имеет смысл проанализировать словарь Фишера. Во-первых, когда он писал о массовых заболеваниях, вызванных судьбой, то речь шла не о психологической травме. Хотя в наше время травма стала почти универсальным объяснением того, что ужасные события могут еще долго влиять на жизнь индивидов, эта идея почти или вовсе не имела распространения в Германии в 1949 г., когда объявился Грёнинг [283] Didier Fassin and Richard Rechtman, The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood (Princeton: Princeton University Press, 2009).
. (Если этот термин все-таки использовался, то относился к физическому шоку или дефекту, а не к последствиям эмоционально тяжелого опыта.) Скорее, Фишер говорил о болезнях, вытекающих, как ему представлялось, из коллективной судьбы, — болезнях, специфических для опыта Германии «последних лет», по его выражению. Он отмечал, что весьма немногие «иностранные государства… в особенности Швеция, Швейцария и США, недавно испытывали „не вполне объяснимый“ рост [психосоматических] заболеваний». Однако « seelische потрясения» этих стран, сказал Фишер, были «не так сильны по сравнению с нашими» [284] «Briefe an Gröning — ein Alarmsignal!», Revue , Nr. 32, 10.
. Он имел в виду болезни, связанные конкретно с немецким опытом.
Когда же Фишер вел речь о «результате событий последних лет», то имел в виду не эпоху нацизма и даже не Вторую мировую войну — по крайней мере не целиком. Он подразумевал лишь те последние, фатальные годы, когда война пришла к немцам домой. Немецкие читатели должны были это понимать, видя на страницах Revue упоминания бомбежек и особенно изнасилований. Это, знали они, означало разгром и оккупацию — и оккупация, разумеется, была первым результатом разгрома, коллективным провалом, из-за которого последовали все унижения. По мнению Фишера, именно разгром и оккупация уничтожили здоровье многих немцев.
Сосредоточившись на крайне ограниченном понимании случившегося «в войну» и говоря только о собственных утратах, жертвах и усилиях, нация как целое смогла снять с себя бремя вины. В складывающемся послевоенном нарративе жители Западной Германии начали воспринимать себя истинными жертвами «войны, которую начал Гитлер, но в которой проиграли все» [285] Robert G. Moeller, War Stories: The Search for a Usable Past in the Federal Republic (Berkeley: University of California Press, 2001), 3–4.
. Когда Ханна Арендт посетила западную часть Германии в этот период, в конце 1949 г., ее особенно поразило то, что она назвала «всепроникающей жалостью немцев к себе». Когда она поведала знакомым немцам во время этого визита, что сама является еврейкой, которую вынудили бежать, чтобы спасти свою жизнь, они в ответ снова и снова заводили речь о «бедной Германии» [286] Grossmann, Jews, Germans, and Allies , 7.
. Чудовищная преступность Третьего рейха, требовавшая от миллионов соучаствовать в преступлениях, а от других — закрыть на все глаза, — все это теперь приписывалось немногим «фанатикам», а именно Гитлеру и СС, которые, как принято было считать, совратили нацию и завели ее в губительный тупик. Коллективная память о виктимизации прекрасно уживалась с резким отказом от денацификации и движением к полной амнистии за преступления нацистской эпохи. Все это порождалось желанием «прикрыть прошлое забвением» или хотя бы сохранить лишь крайне ограниченную память.
Подчеркивание немцами своих потерь было прежде всего средством уклонения от бремени коллективной вины. После войны, пишет историк Атина Гроссман, евреи в Германии — будь то немецкие евреи, вернувшиеся в страну, участники различных оккупационных сил или находившиеся на пути к своему новому дому в Израиле, Соединенных Штатах, Канаде и где бы то ни было еще, — ощущали «зарождающийся стыд» немцев, который «вел к глубокому сопротивлению». Характер этого стыда был не вполне таков, как можно было бы ожидать, исходя из наших оценок сегодня. Евреи, пишет Гроссман, «являлись постоянным унижением» для немцев, «напоминанием о немецких преступлениях и потерях». Иными словами, они были крайне нежелательным напоминанием о поражении в войне [287] Как пишет Майкл Гейер, чувство стыда, соединенное с виной за холокост, вызывало не покаянные, а агрессивные переживания анимуса. См.: «The Place of the Second World War in German Memory and History», New German Critique 71 (Spring-Summer 1997): 5–40, here 17, 19.
. Можно также отметить, что Фишер говорил о массовой судьбе : о чем-то таком, что выпало на долю каждого. Выбор слов тщательно скрывает важное обстоятельство: термин «коллективная вина» предполагал бы активную роль; массовая судьба ее не допускает.
Интервал:
Закладка: