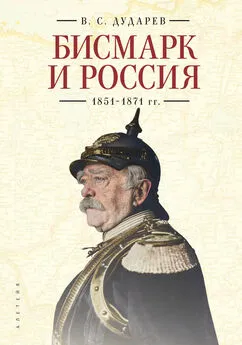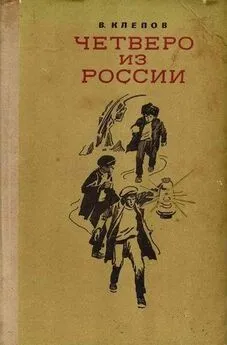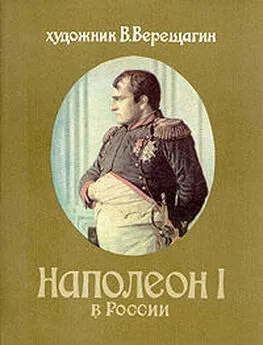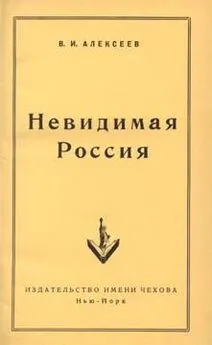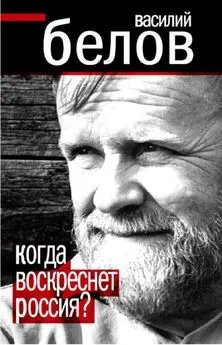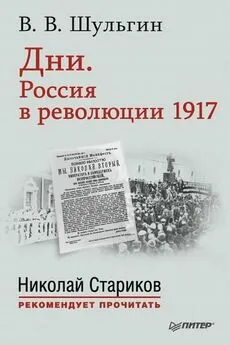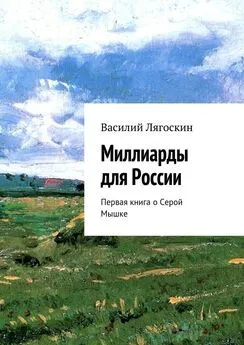Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Название:Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-221-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. краткое содержание
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Третий региональный аспект европейского национального вопроса – германский вопрос – был представлен не менее сложным комплексом противоречий, в который прямо или косвенно были втянуты интересы всех европейских держав. Пеструю картину германских государств мечтали закрасить своими национальными красками разные государства, но соблюдение постановлений Заключительного акта Венского конгресса в различные периоды ограничивали таких политических художников в их действиях. В 1866 г. «Вестник Европы» писал: «Создать из Германии грозную оборонительную массу, лишенную всякой возможности увлечься завоевательными поползновениями, и одаренную, в высшей степени, силой инерции, таковы были главные основания системы, помощью которой Венский конгресс надеялся устранить навсегда всякую возможность возобновления бедствий, опустошавших Европу от 1792 по 1815 годы» [2306]. Еще будучи прусским дипломатом во Франкфурте, но более уже в Петербурге, Бисмарк пришел к убеждению, что разрозненные германские земли должны быть объединены в целостное государство под эгидой Пруссии по малогерманскому сценарию без участия Австрии. Мирными способами и в одиночку такую перекройку германского лоскутного одеяла, сшитого еще на Венском конгрессе, но, по мнению Бисмарка, уже трещавшего по швам из-за своей ветхости, осуществить было очень сложно.
Лишь воспользовавшись благоприятным международным положением и имея крепкую опору в одном или нескольких государствах, можно было только приступить к началу такой сложной работы, не будучи абсолютно уверенным в благоприятном исходе этого опасного предприятия. Учитывая весь комплекс европейских противоречий и степень заинтересованности европейских государств в этом вопросе, Бисмарк пришел к пониманию того, что Пруссия может надеяться лишь на помощь России. Но чем логичнее этот вывод был в теории, тем более сложной эта задача представлялась на деле, поскольку получить у российского императора, защищавшего принципы монархизма в Европе, поддержку в революционном акте фактического разрушения прежних международных отношений и потере законными правителями своей власти являлось задачей не из легких.
В этом и заключалась особенность второго (после национального) вопроса для России и Пруссии: об отношении к легитимности. Перед Бисмарком стала задача представить продолжение существования легитимных династий германских правителей, а, следовательно, мелких и средних германских государств как не соответствующий реальному положению дел анахронизм, противоречивший государственным интересам Германии факт и угрожающую дальнейшими беспорядками в Центральной Европе опасность. Как бы ни противился Петербург медиатизации или низложению законных монархов, ему все же пришлось ответить на вопрос, стоило ли с точки зрения непосредственно российских национальных интересов жертвовать крепкими отношениями с Пруссией ради сохранения германских династий. Могли ли мелкие и средние германские государства оказать России сопоставимую с прусской действенную помощь в восточном вопросе, польском вопросе или противодействии агрессивному внешнеполитическому курсу Австрии и Франции в Европе? И не следовало ли Петербургу еще после Крымской войны вынести урок из того, насколько действительно в Германии умели ценить его вдохновленную высокими принципами монархизма и легитимизма бескорыстную помощь в связи с Венгерским походом 1849 г. и Ольмюцским соглашением 1850 г.? Соотношение значимости для императора в этот момент поддержки прав германских правителей по сравнению с перспективой долгожданного решения восточного вопроса – проблема очень интересная и довольно сложная. В этом вопросе германские источники едва ли могут дать однозначный ответ, и изучение его представляется возможным на основании широкого круга отечественных источников в рамках отдельного исследования.
Вместе с вопросом об отношении к легитимности нераздельно следовал и третий вопрос: о революции. В отношениях с Петербургом в ходе всех трех войн за объединение Германии Бисмарк следовал принципу, который подтвердил свою эффективность. Лишь только возникала опасность вмешательства европейских государств для мирного урегулирования военного конфликта, Бисмарк отправлял в Петербург телеграммы и предписания, в которых просил прусских дипломатов транслировать в российской столице информацию о неизбежном нарастании национального недовольства в Пруссии, если понесший военные жертвы народ не будет удовлетворен условиями мира. Не следует забывать, что благодаря дипломатическому искусству Бисмарка Пруссия никогда не начинала войну первой, поэтому каждый раз находилась в роли пострадавшей стороны. В германском общественном мнении это придавало дополнительные очки Берлину, особенно на фоне его патриотической риторики о защите интересов не только собственного населения, но и германской нации в целом. В таких условиях действительно сложно было склонять Берлин к участию в дискуссиях о восстановлении довоенных отношений, которые опять могли угрожать прусскому народу в дальнейшем. 22 апреля 1869 г. на заседании Северогерманского сейма известный депутат от Национал-либеральной партии Карл Твестен в своем выступлении сослался на одно из писем А. М. Горчакова. Твестен обращал внимание депутатов на правоту слов российского министра иностранных дел о том, что «внешняя политика все больше перестает быть политикой кабинетов, но мнение народов, их симпатии и антипатии становятся важным фактором внешней политики». По мнению Твестена, в современных европейских условиях игнорировать роль общественного мнения было совершенно недопустимо [2307]. Действительно, апелляция к гневу народному и германскому общественному мнению трижды принесла успех бисмарковской политике прусских территориальных аннексий и итогового объединения Германии.
В историографии существует мнение о том, что именно опасностью революции Бисмарк чуть ли не «запугивал» петербургский кабинет и российскому руководству ничего не оставалось, как молчаливо наблюдать за возникновением у своих границ грозного соседа. Безусловно, перспектива повторения польской смуты, возможно, с более глубокими последствиями в момент проведения внутриполитических преобразований была нежелательна для императора. Но настолько ли опасным это виделось российскому руководству? Бисмарк писал, что российское влияние и положение в Польше после 1864 г. было таким, что любое волнение было бы уничтожено в самом начале. Можно предположить, что официально осуждающий факт свержения законных династий Петербург соблюдал нейтральное положение, поскольку был заинтересован в решении куда более важного для него восточного вопроса и в ответ на свою позицию справедливо рассчитывал в будущем на поддержку Берлина. Кроме того, во время бесед с Бисмарком еще в период его дипломатической деятельности в Петербурге Александр II высказывал свое представление о консолидированной Германии под эгидой Пруссии как надежном гаранте против распространения революционной опасности в Европе. Таким образом, вопрос о революции приобретает дополнительное звучание в изучении российско-прусских отношений данного периода. Апелляция Бисмарка к угрозе революции в Германии в случае, если требования немецкого народа будут проигнорированы великими державами, внешне оправдывала его стремление к объединению Германии, а вот возможность образования прочного заслона против революционной опасности Франции в образе единой Германии соответствовала уже стратегическим интересам России. И пусть «Санкт-Петербургские ведомости» и писали в 1868 г., что «Россия стоит совершенно одинокой в европейском политическом мире. Она не может рассчитывать ни на одно из европейских государств и должна опираться на свои собственные силы» [2308], Пруссия все же сдержала свое слово, оказав России поддержку в отмене ограничительных статей Парижского мирного договора 1856 г. на Лондонской конференции в 1871 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: