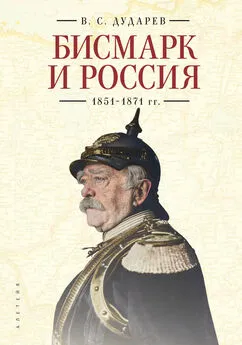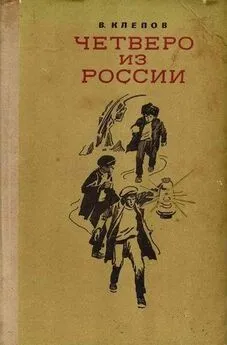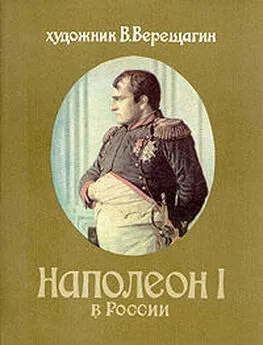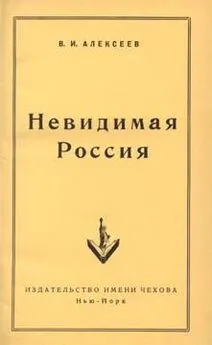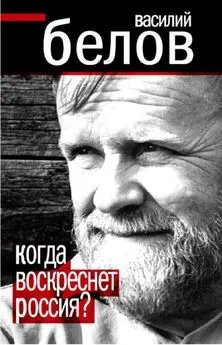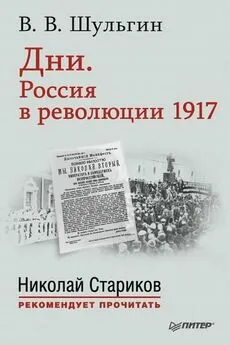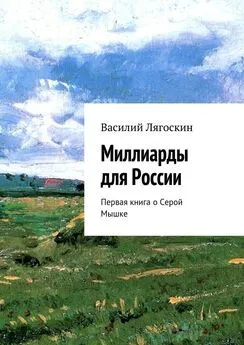Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Название:Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-221-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Дударев - Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. краткое содержание
Бисмарк и Россия. 1851-1871 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ходе реализации прусских национальных задач Бисмарк прибегал к различным методам, моральную сторону которых можно оставить для обсуждения в специальном исследовании. Достаточно вспомнить начало войны против Дании, его апелляцию к венгерскому национальному движению накануне войны с Австрией или заявление в конце 1870 г. о том, что Пруссия встанет во главе германской революции, если европейские державы вмешаются в переговорный процесс с Францией. Реальная политика Бисмарка до 1871 г. как раз и заключалась в оправдании средств главной целью, которой, в его понимании, было германское единство. Однако в отличие от распространенного мнения, ставшего уже историографическим мифом, политика «железа и крови» в процессе объединения Германии не являлась новаторством Бисмарка.
Еще в 1849 г. Л. Шнейдер в своем письме в Петербург цитировал берлинскую «Wehrzeitung», фраза из которой разнеслась позже по другим печатным изданиям Германии: «Не во Франкфурте, но на поле битвы будет избран будущий Император Германии, и баллотировка о короне Императорской будет произведена пушечными ядрами» [2309]. Не похожи ли на нее слова Бисмарка, сказанные им в речи 30 сентября 1862 года в Бюджетной комиссии Палаты депутатов: «Великие вопросы эпохи решаются не речами и не постановлениями большинства – это была величайшая ошибка 18481849 годов, – а железом и кровью» [2310]? Бисмарк не придумал новое, но был тем, кто не побоялся заявить об этом во всеуслышание. Он стал своеобразным выразителем мнения наиболее решительной части немецкого общества, которая ради объединения государства не исключала возможность прибегнуть к радикальным мерам, противоречившим традиционной нерешительной политике мелких германских государств, запутывавших германский вопрос в политической трясине франкфуртского Союзного сейма. Бисмарку нередко приходилось с большим трудом отстаивать свое мнение во время парламентских дебатов сначала в Союзном сейме, а затем в прусском ландтаге и северогерманском рейхстаге. «Какой смысл, – вопрошал Бисмарк прусских депутатов, – в том, чтобы я присутствовал на заседаниях парламентских комиссий? Не последует никакого другого результата кроме того, что затем с трибуны каждое выступление будет начинаться со слов: „Министр-президент сказал“ – а далее следует нечто, что у меня и в мыслях даже не было произносить» [2311].
Хотя «Вестник Европы» и отказывал в успешном будущем начатому Бисмарком делу, как «непрочному» и «не отвечающему истинным требованиям немецкого народа, который стремится осуществить идею германского, а не прусского единства» [2312], «Московские ведомости» писали, что «не только южногерманским государствам будет трудно устоять от слияния с Пруссией; от него едва ли уйдут даже немецкие земли, принадлежащие ныне дому Габсбургов. Даже в этих землях скоро обнаружится тяготение к общему германскому отечеству, уже предусматриваемое английскими газетами, которые <���…> с недавнего времени восчувствовали почему-то особенную нежность к Пруссии и уже теперь сулят Австрии, что она должна будет рано или поздно расколоться, отдать Германии Вену и перенести свое средоточие в Пешт, ища на Востоке пищи к утолению исторического честолюбия Габсбургов» [2313]. И прав был петербургский корреспондент «Allgemeine Zeitung», который писал, что «на Востоке Европы, кажется, готовятся события, имеющие далеко идущие последствия» [2314].
Если результаты Австро-прусской войны привели к решению спора между двумя великими державами за лидерство в Германии, то Франко-германская война подвела итог в решении германского вопроса. Более того, она свидетельствовала об изменении механизмов функционирования посленаполеоновской Европы начала XIX века, о фактическом упразднении Венской системы международных отношений. Следствием политики невмешательства Великобритании в европейские дела, переоценки собственных возможностей Франции, ошибок в дипломатии Австрии и благожелательного нейтралитета России стало возникновение грозного государства в самом центре Европы, появление которого не могло не оказать влияния на судьбы Европы последней трети XIX века. Еще в 1866 г. «Московские ведомости» спрашивали: «Не переделана ли уже теперь карта Европы, и притом не приняла ли участие в этой переделке одна из нейтральных держав? Существует ли европейское равновесие? Продолжает ли существовать европейская пентархия?» [2315]. После тектонических изменений на континенте в 1860-е гг. стала формироваться новая система европейского баланса сил, следствием которой было складывание международных военно-политических блоков. Если прежде возникновение коалиций было ответным шагом на появление угрозы безопасности на континенте, то после 1871 г. желание Германии обеспечить сохранность созданной империи породило необходимость окружить себя системой явных или тайных межгосударственных союзов при всей их декларативной нацеленности на сохранение безопасности в Европе. Учащающиеся вспышки международных конфликтов привели к ощущению в Европе перманентной международной напряженности, грозившей в любой момент разразиться новой общеевропейской войной. Учитывая разработку военными штабами европейских держав принципов тотальной войны, очередной конфликт грозил вылиться в еще не виданную ранее европейскую катастрофу. Решение германского вопроса в веке XIX во многом повлияло на формирование будущих линий разрыва Европы в начале века XX.
1866 год определил появление на российской западной границе в будущем двух очагов опасности, исходившей из государств, разрешивших между собой основные противоречия.
Вследствие войны 1866 г. Австрия стала терять интерес к Центрально-Европейскому региону. Переориентация ее внешнеполитического курса на юго-восточное направление не могла не сказаться на формировании нового расклада сил на Балканах и создавала почву для перманентного накаливания напряженности в этом регионе Европы, где находились интересы России.
Успешный запуск в 1864 г. и отладка в 1866 г. механизма территориального расширения Пруссии рождали в германском обществе опасный вкус к победам. Неслучайно с конца 1860-х гг. в перестрелке хлестких германских и российских газетных передовиц появилась неудобная для России полемика вокруг германских интересов в Остзейском крае, от чего официальный Берлин открещивался как только мог.
Еще в феврале 1863 г. один из основателей Германского национального союза, председатель Германской прогрессистской партии Ханс Виктор фон Унру, рассуждая на заседании прусской Палаты депутатов о перспективе российско-прусских отношений, сделал ряд интересных выводов. Он доказывал, что существование на российской западной границе в определенном смысле заслона от французских революционных веяний в образе Пруссии с относительно слабой армией и несамостоятельным внешнеполитическим курсом было выгодным для России, «которая и желать-то чего-то лучшего уже и не хотела». В этой связи «Пруссия, преобразованная действительно в великую державу, Пруссия, проводящая вследствие собственного усиления самостоятельную внешнюю политику, – никогда не была целью российской политики и никогда не будет целью российской политики». Оказавшись рано или поздно перед выбором из двух зол: австрийская 72-миллионная империя или 32-миллионная Прусско-германская империя, – Россия, по мнению Унру, скорее всего «предпочла бы меньшее зло» [2316]. Тем не менее, развитие дружественных отношений между Россией и Германией было возможно лишь до того момента, пока оба государства в них нуждались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: