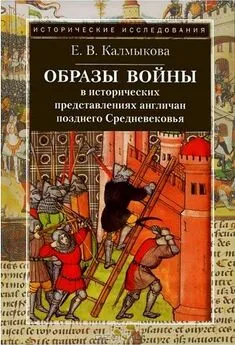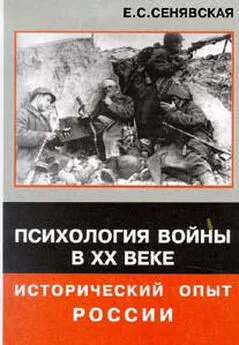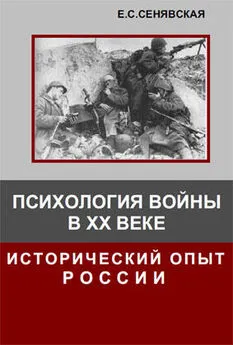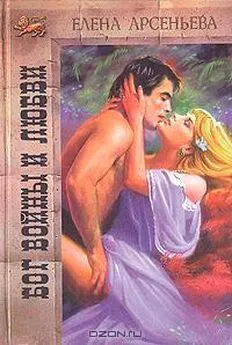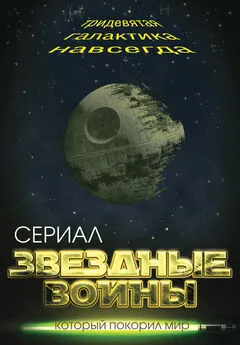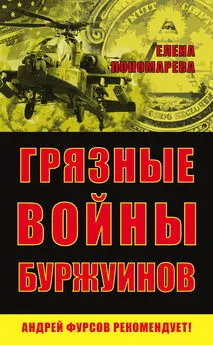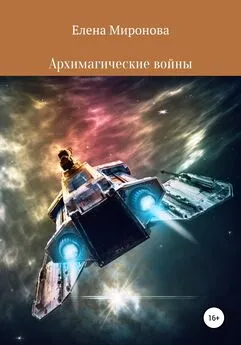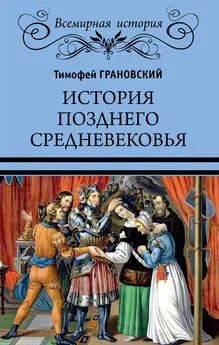Елена Калмыкова - Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья
- Название:Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Квадрига
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91791-012-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Калмыкова - Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья краткое содержание
Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В отличие от негативного оттенка хитрости «врагов» у «своих» она приобретает значение «находчивости», становясь достоинством проявляющих ее людей. Например, в 1402 г. битва с шотландцами была выиграна, по мнению Адама из Уска, только благодаря храбрости и «хитроумию» английских конюхов: видя, как враги теснят англичан, они взобрались на лошадей своих хозяев и «кричали в один голос: "Шотландцы бегут! Шотландцы бегут!", чем очень напугали шотландцев, сражавшихся на передней линии, и, пока те смотрели назад, чтобы выяснить причину происходящего, они падали, сраженные градом ударов по ушам и плечам» [1161].
Наделяя представителей вражеского лагеря всевозможными пороками и недостатками, английские авторы рисовали абстрактный собирательный образ противника. Такой образ вполне мог вызывать негативные эмоции, но фактически полностью лишал персонажей индивидуальных черт. Большинство английских историографов умолчало о проявленной в битве при Пуатье Иоанном II воинской храбрости (благодаря которой король и оказался в английском плену), зафиксировав внимание на том, что французское войско было обращено в бегство и что среди прочих знатных пленников был король Франции. В тех редких случаях, когда авторы, на первый взгляд, воздавали должное красивым и достойным деяниям врага, делалось это с целью акцентировать внимание читателя на других неблаговидных поступках. Как уже отмечалось выше, подобный подход к изложению материала объясняется спецификой мышления средневековых историографов, разбивавших повествование на отдельные эпизоды.
Сообщая о возвращении в плен отпущенных под честное слово Дэвида II и Иоанна II, историки подчеркивают нежелание шотландцев выкупать своего короля и отказ дофина признать договор, заключенный его отцом. Более того, Генрих Найтон даже приводит «веские» доказательства бесчестности самого короля Иоанна. Находясь в Лондоне, плененный Иоанн II заключил в 1359 г. мирный договор с королем Англии, по которому к Эдуарду III отходила значительная часть французских земель, и скрепил этот договор своей клятвой. Однако, нарушая ее, Иоанн сам отправлял во Францию письма, полные заверений в том, что он «никогда даже не помыслит отдать и пяди французской земли королю Англии» [1162]. Кроме того, этот король «имел в Лондоне много секретных агентов, которые тайно собирали лучшее золото королевства, переплавляя его в слитки, и помещали их в железные ящики, чтобы переправить во Францию. И они покупали луки и стрелы и прятали их в мешки с шерстью, и была собрана тысяча луков и большое количество оружия для отправки во Францию». Однако, тяжело заболев и почувствовав приближение смерти, Иоанн II решил снять грех с души и открыл Эдуарду III места всех тайных складов и их предназначение. Также он признался в том, что «злонамеренно и незаконно удерживал королевство Францию вплоть до мира в Кале. И он просил простить все вышеперечисленные вещи, и король Эдуард даровал ему прощение» [1163]. Выше уже упоминалась история о том, как нарушил свою клятву сын Иоанна, принц Людовик, отставленный в английском плену заложником вместо своего отца, отпущенного во Францию для сбора выкупа. Пользуясь большой свободой, принц летом 1363 г. бежал из плена, вынудив тем самым отца вернуться в Англию [1164].
Помимо параметров, которые можно обозначить как морально-этические, в хрониках и поэмах встречаются и попытки сравнения интеллектуальных характеристик представителей враждующих сторон. Для их определения авторы источников располагают двумя парами качеств: «мудрость — безрассудство» и «хитрость — проницательность». Характеристика «мудрый» является столь частным эпитетом «своих» государей, что на ней нет смысла останавливаться специально. Ее противоположность, применяемая только по отношению к чужим правителям, как правило возникает при оценке намерения врага вступить в противоборство с англичанами или отклонения предложенных ему условий мира. Гораздо реже встречается другой антоним мудрости — глупость. По свидетельству Джона Эргома, склонность Дэвида II к роскошной неге и распутству стала привычной темой для представлений менестрелей и жонглеров, которые всюду рассказывают о нем. Подданные смотрят на него без всякого почтения и уважения, более того, даже вернейшие из них считают его дураком [1165]. Что же касается психического расстройства Карла VI, то страх бросить тень на мир в Труа, ознаменовавший величайший внешнеполитический успех Англии, вынуждал английских историографов обходить тему интеллектуальной ущербности подписавшего этот договор короля Франции.
Вторая пара характеристик значительно интереснее. На первый взгляд, хитрости противника должна противопоставляться находчивость «своих» (положительное определение для внешнеполитических или военных ситуаций). Однако в действительности все выглядит иначе. Как было показано выше, противник проявляет вполне традиционную коварную хитрость, а «свои» — доверчивость, свидетельствующую не о скудости ума, а о честности. В любом случае в конечном счете «свои» либо избавляются от опасности при помощи Бога, либо (опять-таки по воле Всевышнего) узнают о вражеских замыслах и предпринимают контрмеры. Любопытно, что английские короли никогда не замышляют ничего просто так: на страницах исторических сочинений любая их военная хитрость или политическая уловка не возникает по их собственной инициативе, но является вынужденным ответом на происки противоположной стороны. Так было, например, в 1350 г., когда Эдуард III подготовил в Кале ловушку для французов, вошедших в сговор с изменившим англичанам капитаном города [1166].
Завершая разговор о склонности венценосных персонажей хроник к хитрости, следует отметить, что наделенные этой характеристикой враги в полной мере проявляют ее по отношению не только к англичанам, но и к собственным подданным. Хроника Джеффри Ле Бейкера с первых же страниц знакомит читателей с отцом первого короля из династии Валуа, Карлом — «мужем удивительно хитрым». Он еще в 1325 г. решил убить короля Франции Карла IV, поскольку, «предполагая, что у его племянника не будет наследника, задумал в обход закона лишить королевства Франции племянника короля Карла, короля Англии». Для осуществления этого замысла Карл Валуа пригласил короля Франции на охоту и обед в один из своих замков, в лесу, возле которого он расставил людей с ножами и веревками, дав им приказ уничтожить короля и его свиту. Однако заговор был раскрыт, арестованный Карл Валуа «из-за почтения к королевской крови не был ни повешен, ни обезглавлен, но без штанов, обнаженный был посажен на мрамор, поливаемый холодный водой, где из-за плохой погоды он на холоде скончался» [1167].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: