Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«В момент моего приезда 4-й запасной пехотный полк насчитывал около 10 тысяч человек, из которых 9 тысяч не были обмундированы… Если бы не помощь 2-го Белорусского фронта, с продовольствием была бы катастрофа. На сегодняшний день имеется лишь однодневный запас картошки. Помещение годится в лучшем случае на четыре — пять тысяч людей. Нет воды и света. Теснота, духота неописуемые» {291} 291 Там же, с. 74.
, — докладывал главнокомандующему Войска Польского начальник Главного политико-воспитательного управления, инспектировавший гарнизон в Белостоке.
А больше всего недоставало кадров, способных как-то упорядочить и организовать эту солдатскую массу. 1-я армия дала сотни офицеров, мобилизация — две тысячи, тогда как рассчитывали на гораздо большее количество. Исправно и в срок прибывали только офицеры, откомандированные в Войско Польское командованием Советской Армии. Таким образом, одни люди ожидали других, которые придадут их патриотической готовности боевой смысл.
Эту массу, еще лишь наполовину солдатскую, раздирали самые различные сомнения и опасения. Многие прибывали для службы в Войске Польском из Западной Украины и Западной Белоруссии. В запасные полки из польских частей приезжали за людьми советские офицеры, не умевшие говорить по-польски. Люди боялись, что их повезут назад, а не в Войско Польское. Многие прибыли из Волыни, Западной Украины, а также из пограничных уездов Люблинщины, Хрубешува. Там они составляли самооборону, охраняли свои семьи. Здесь они, скопившиеся в запасном полку, чувствовали себя ненужными, ожидая служебного назначения, мундира и оружия… А дома хозяйничали бандеровцы… Доходили вести, слухи, письма о зверствах, назывались сожженные местечки, сровненные с землей деревни, фамилии убитых соседей.
Многие пришли прямо из родной деревни в часть, стоявшую здесь же, в этой деревне. Одетые еще в домашние лохмотья, питавшиеся еще хлебом, взятым из дому, ошеломленные, затерявшиеся в коловороте «первого дня творения» — рождения нового полка или дивизии, они здесь ждали. Деревня была тут же, рядом, отец, мать, жена — им-то каково придется? А тут пора поднимать зябь, проводить осеннюю пахоту, сев. Земля ждет, и землю дают — не обойдут ли, раз в доме нет мужчины?..
И все беспомощно посматривали в сторону хаты, где расположился штаб полка — те несколько еще незнакомых людей, из которых самое большее каждый пятый говорит по-польски и которых так редко можно видеть, ибо они в отчаянии пытаются как-то распутать весь этот балаган… Посматривали и в другую сторону, в лес, где, они хорошо знали, укрывались другие, в мундирах и с оружием. Может быть, неладно что-нибудь в этом войске…
Они еще не очень уверенно чувствовали себя — солдаты без мундира, без своего места в строю, у полевой кухни, на утренней поверке или у стойки с оружием. Без своего командира, знакомого, близкого. «Естественно, что солдат, не вооруженный и не обмундированный, крайне слабо ощущает свою связь с войском» {292} 292 „Organizacja i działania…”, t. IV, s. 438.
, — писал майор Петр Ярошевич из 1-й армии в октябре 1944 года. Почти буквально то же самое, что 113 лет назад, в 1831 году, писал другой польский офицер, поручник Альфред Млоцкий из 9-го пехотного полка армии Королевства:
«Крестьянин в армяке считал себя крестьянином, а не солдатом» {293} 293 Alfred Młocki: „Ze wspomnień. Zbiór pamiętników do historii powstania polskiego w 1830—1831”, Lwów, 1882, s. 301.
.
Командир одного из полков народного Войска Польского писал:
«Голод стал причиной массового дезертирства. Солдаты уходили по домам за хлебом и салом».
Я помню трех пойманных дезертиров из моего полка. Один был совершенным кретином. Он действительно ничего не понимал, ни в малейшей степени не отдавал себе отчета в своих обязанностях, правах, ответственности. Другой был сектантом, у него была религиозная мания: он непрерывно молился, твердил, что не может даже прикоснуться к оружию. Третий был трусом, но трусом болезненным. Он трясся не только при звуке далекого выстрела, но даже при громких криках. Ни один из них не симулировал. Однако следует, пожалуй, признать, что это — «нормальное» дезертирство. В каждом скоплении людей, особенно в столь многочисленном, как войско в период войны, можно обнаружить определенный процент психопатов, умственно отсталых, маньяков. И наконец, страх испытывает каждый, но не каждый может контролировать и преодолеть его. Даже тогда, когда речь не идет о риске стать калекой или погибнуть, процент естественного отсева довольно высок. В довоенной польской армии, в обычных мирных условиях при призыве около 100 тысяч рекрутов ежегодно число дезертиров (не считая различных форм откупа или уклонения от призыва) колебалось от 1000 до 1500 {294} 294 I. Blum, op. cit, s. 75.
.
Трагические судьбы людей в годы второй мировой войны также породили миллион самых причудливых жизненных ситуаций. Мне известен случай дезертирства солдата, который в условиях боев не мог получить отпуск, а хотел узнать, жива ли его семья, о которой он не имел никаких сведений с 1939 года. Я знаю случай дезертирства 17-летнего добровольца, которого разыскала мать и забрала домой «по моральным соображениям» («эти мужики могут испортить ребенка!»). Наконец, существовали те реальные условия, складывавшиеся из голода и холода, которые легче переносятся в окопах на фронте, когда смысл жертвы очевиден, и труднее — в тыловом лагере, где еще ничего не совершается, где никто ничего не хочет и ничего не дает, а родной дом слишком близок, а до собственной перины, миски с клецками и жены совсем недалеко, каких-нибудь пять километров.
Или же наоборот — слишком далеко, но наверняка известно, что там человек нужнее.
«В Мосьциске, — докладывает инспектор Главного политико-воспитательного управления Войска Польского, — находится около 120 дезертиров. Эти дезертиры вооружены и держат самооборону против нападений бандеровцев на их семьи. 19 солдат, которые группой дезертировали из 10-й пехотной дивизии, родом тоже из Мосьциски» {295} 295 Цит. по: I. Blum: „Sprawa 31 pułku piechoty”, „WPH”, nr 3/1965, s. 55.
.
В сумме все эти факторы влияли на картину дезертирства. В сентябре 1944-го из 1-й армии при личном составе в среднем около 72 тысяч дезертировало 66 человек. Но 2-й армии данных нет. В октябре из 1-й армии дезертировало — 266 человек; из 2-й при личном составе 50 тысяч — около 3 тысяч. В ноябре из 1-й армии дезертировало — 130 человек, из 2-й — 280. По прошествии нескольких месяцев, после стабилизации частей и накануне кровавых боев, к которым готовились солдаты, в апреле 1945 года данные о дезертирстве выглядят следующим образом: в 1-й армии при личном составе 80 тысяч человек — 27, во 2-й при личном составе 90 тысяч человек — 66 (в том числе одно дезертирство групповое диверсионного характера). Красноречивые цифры! {296} 296 Там же, с. 52, 53.
Нормальные причины военного времени и великого становления объясняют почти все. За исключением октября. За исключением этих, впрочем, весьма неточных и, несомненно, преувеличенных данных: «около 3 тысяч» при личном составе 2-й армии 50 тысяч солдат. Ибо кроме всего того, о чем шла речь выше, было ведь и другое, о чем, по правде говоря, не хочется вспоминать и чего лучше бы не было.
Интервал:
Закладка:


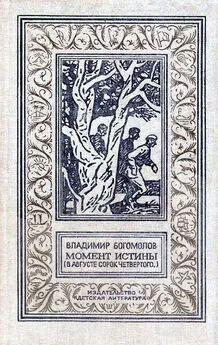

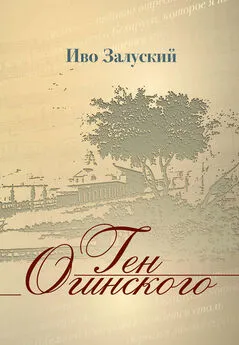
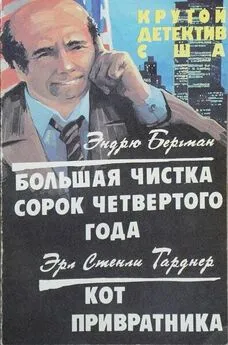
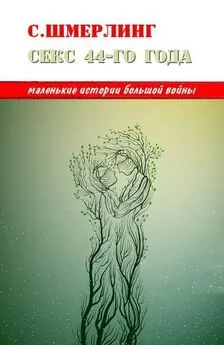
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
