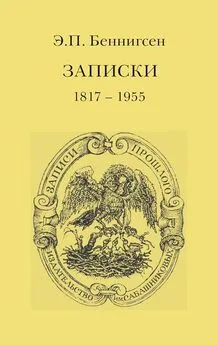Эммануил Беннигсен - Записки. 1917–1955
- Название:Записки. 1917–1955
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство им. Сабашниковых
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0160-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эммануил Беннигсен - Записки. 1917–1955 краткое содержание
Во втором томе «Записок» (начиная с 1917 г.) автор рассказывает о работе в Комитете о военнопленных, воспроизводит, будучи непосредственным участником событий, хронику операций Северо-Западной армии Н. Н. Юденича в 1919 году и дальнейшую жизнь в эмиграции в Дании, во Франции, а затем и в Бразилии.
Свои мемуары Э. П. Беннигсен писал в течении многих лет, в частности, в 1930-е годы подолгу работая в Нью-Йоркской Публичной библиотеке, просматривая думские стенограммы, уточняя забытые детали. Один экземпляр своих «Записок» автор переслал вдове генерала А. И. Деникина.
Издание проиллюстрировано редкими фотографиями из личных архивов. Публикуется впервые.
Записки. 1917–1955 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В одно из моих посещений Калишевских они свезли меня вечером в Camden в кинематограф под открытым небом. Все собирающиеся оставались в своих автомобилях, располагавшихся рядами по склону холма. Не скажу, чтобы я остался в восторге от этого зрелища — видно было неважно, и было скучно.
Один раз я поехал к Калишевским не по железной дороге, а автобусом, чтобы просмотреть и эту дорогу до Филадельфии. Оказалась она неинтересной, и вместо двух часов переезд длился почти четыре. При этом по дороге зачем-то останавливались на полчаса, по-видимому, чтобы дать заработать месткому трактирщику. Если около самого Нью-Йорка поражают великолепные дороги, рассчитанные на большое автомобильное движение, то уже в получасе от него они превращались в обыкновенную, правда, хорошую шоссейную дорогу, около Филадельфии уже узкую. Отмечу, что и здесь, и около Woodbury, в отличие от наших шоссе, здешние не окопаны канавами, что облегчает съезд с них и оста новки. Невольно возникла у меня мысль, насколько эти канавы необходимы и у нас в местности без избытка влаги.
На правоведском обеде я встретил петербургского нотариуса Гревса, окончившего Училище через год после меня. Он оказался женатым на вдове Н. Д. Чаплина, бывшей Басалевской, женщине, несомненно, интересной. Первоначально они попали в Сиам, где их приютил принц Чакрабон, но там не засиделись, и перебрались в Соединенные Штаты, где Гревс стал адвокатом и участником небольшой фирмы, специализировавшейся на вопросах частного международного права. Гревс был человек способный, и, видимо, и в Нью-Йорке создал себе положение. Как-то был я у них, а в другой раз он мне показал помещение Союза адвокатов, в котором, по его словам, была исключительная библиотека по юридическим вопросам. Помещение это в самом центре города было обставлено комфортабельно, но имело несколько старинный вид.
Другой правовед, Кулибин, свел меня в Союз русских адвокатов, оказавшийся, по существу, объединением русских юристов. Собирались они в каком-то скромном помещении, да и весь состав их имел очень скромный вид. Меня попросили сделать сообщение о положении в Европе, что я и выполнил, остановившись преимущественно на экономической его стороне. Еще более скромный вид имел Общевоинский союз, председательствовал в котором тогда генерал Имнадзе, кажется артиллерист, ничем не выдающийся. Туда меня пригласили повторить доклад, уже ранее сделанный мною в «Обществе друзей русской культуры» о подготовке России к войне. Собралось человек двадцать, из коих никто особого интереса к теме доклада не проявил, да, по-видимому, и не был с ней знаком.
Только что упомянутое мною «Общество друзей русской культуры» было единственным тогда в Нью-Йорке, имевшим культурное значение. Собиралось оно еженедельно в подвальном помещении при каком-то ресторане для выслушивания самих разнообразных докладов. Руководили им два очень симпатичных и культурных наших соотечественника, В. В. Васильев и инженер Новицкий. Из сообщений, которые я там слышал, припоминаются мне доклады о развитии русского языка и о трудах в деле усовершенствования телевизии (телевидения). Первый из них удивил меня некоторыми утверждениями, вроде того, что русский язык примитивен по сравнению с английским и менее богат, чем он. Прений он не возбудил, а я не имел данных, никогда не занимаясь филологией, чтобы поставить докладчику вертевшиеся у меня в уме вопросы. Не было задано вопросов и по докладу, сделанному о телевизии инженером Зворыкиным, одним из первых, если не самым первым, начавшим работать над ней. Я уверен, что почти никто его не понял. Зворыкин начал доклад фразой: «Вы, конечно, знаете то-то и то-то». Однако ни я, ни, как я потом услышал, почти никто из слушателей этого не знал, и вынесли поэтому от доклада самое туманное впечатление. Курьезен, но в чисто американском духе был зато вопрос, заданный Зворыкину о том, стоит ли подписываться на акции компании по изготовлению телевизионных аппаратов. Улыбнувшись, докладчик ответил, что он не компетентен ответить на этот вопрос.
Я сделал в этом обществе два доклада: «О подготовке России к войне» и о «Состоянии России перед революцией». По обоим были довольно оживленные прения, и из возражений мне сделанных, запомнились два. В числе постоянных посетителей общества был Завалишин, артиллерийский офицер, служивший в Главном Артиллерийском Управлении и обидевшийся на мою отрицательную оценку этого учреждения. Впрочем, ни одного из фактов, мною указанных, он опровергнуть не мог, и сам, кроме общих фраз, ничего указать не мог. По докладу о положении России, в котором я иронически отнесся к деятельности Керенского, мне стала горячо возражать какая-то пожилая поклонница его, тоже, однако, дальше общих мест не пошедшая.
Уже весной был я на скромном товарищеском обеде посетителей этих докладов, мало, впрочем, интересном. Новицкий был также активным участником Общества помощи детям русской эмиграции, собиравшим в Соединенных Штатах значительные суммы и распределявшим их между различными организациями в Европе. Несомненно, этому обществу многие русские дети должны быть благодарны за то, что смогли и получить образование, и вообще стать на ноги.
Говоря о русской культуре, упомяну о двух издававшихся тогда в Нью-Йорке газетках (назвать их газетами едва ли было возможно). Одна — «Новое Русское Слово», возникла, когда русская колония в Нью-Йорке была почти исключительно еврейской и сохранила еще свой еврейский характер. Вместе с тем, она была тогда, хотя и не большевистского направления, то, во всяком случае, левого. Никто не сказал бы тогда, что «Новое Русское Слово» через 15 лет, если и станет вообще интересной для русских газетой, то примет оттенок, определенно антисоциалистический. Другая газетка под названием, кажется, «Россия», издавалась неким Рыбаковым, и еще в 1939 году проповедовала крайние правые взгляды, которые привели нас к революции 1917 года.
Кстати, по поводу старой России, отмечу еще, что мне посоветовали посмотреть в галереях внизу Rokefeller Center продажу русских вещей, большей частью принадлежавших царской семье. Я пошел туда, и действительно, увидел большую витрину, заполненную иконами в ценных ризах, блюдами и кубками, изделия, вероятно, Хлебникова или Овчинникова, и в меньшей степени так называемыми «Лукутинскими» изделиями. На большей части этих вещей были надписи о том, что они поднесены Государю или его семье той или иной организацией при той или иной оказии. Помнится мне, что некоторые вещи были поднесены по случаю 300-летия царствования дома Романовых. В магазин я не заходил, и публики в нем видимо не было.
В другой раз зашел я в книжный магазин, в котором продавались ценные русские книги, некоторые из которых меня очень соблазняли, но цены их были мне не по карману. Об этом магазине мне говорила потом вел. княгиня Мария Павловна, что она нашла в нем книги не то со штемпелем, не то с экслибрисами ее отца. У вел. княгини, когда я у нее был, была уже порядочная библиотека исторических книг, впрочем, не все одинаковой внутренней ценности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: