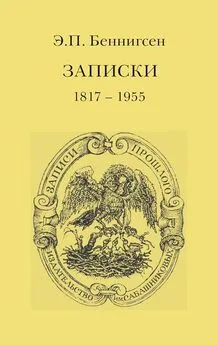Эммануил Беннигсен - Записки. 1917–1955
- Название:Записки. 1917–1955
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство им. Сабашниковых
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8242-0160-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эммануил Беннигсен - Записки. 1917–1955 краткое содержание
Во втором томе «Записок» (начиная с 1917 г.) автор рассказывает о работе в Комитете о военнопленных, воспроизводит, будучи непосредственным участником событий, хронику операций Северо-Западной армии Н. Н. Юденича в 1919 году и дальнейшую жизнь в эмиграции в Дании, во Франции, а затем и в Бразилии.
Свои мемуары Э. П. Беннигсен писал в течении многих лет, в частности, в 1930-е годы подолгу работая в Нью-Йоркской Публичной библиотеке, просматривая думские стенограммы, уточняя забытые детали. Один экземпляр своих «Записок» автор переслал вдове генерала А. И. Деникина.
Издание проиллюстрировано редкими фотографиями из личных архивов. Публикуется впервые.
Записки. 1917–1955 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще когда Катя лежала в Santa Rita пришли первые телеграммы о приезде Риббентропа в Москву и о подписании русско-германского договора о ненападении. Впечатление от этих известий было очень отрицательное; если и сейчас не все ясно в истории развития переговоров между Россией и западными странами за лето 1939 г., то тогда перемена фронта в Москве была совершенно непонятна, и соглашение двух правительств, до того столь враждебных друг другу, произвело впечатление для России крайне неблагоприятное. Не мог понять его и я, и только понемногу выяснилось мне, что зная, сколь еще слаба Россия в военном отношении по сравнению с Германией и не видя готовности у западных стран обеспечить ей более удобные условия для начала военных действий, советское правительство предпочло отсрочить их для себя заключением договора с Гитлером. Несомненно, это ускорило нападение Германии на Польшу и начало общей войны, но с другой стороны дало России почти два года для усиления своей обороны. Вторжение немцев в Польшу и объявление им войны Францией и Англией если и явились после этого сюрпризом, то лишь в отношения срока, когда это случилось.
По всем этим вопросам мне приходилось писать в «Estado» и сознаюсь, что в том положении неосведомленности, в котором мы были в Бразилии, это было подчас нелегко. Мировое общественное мнение было тогда определенно против Германии, и образ действий России, облегчивший ей разгром Польши, симпатий к советскому правительству не внушил. Тем паче вызвала резкую критику аннексия восточной части Польши и, хотя я и объяснял, что были присоединены только районы, которые даже западные страны после 1-ой войны признавали не польскими, а русскими, напоминал про линию Керзона, однако, делать это приходилось очень осторожно, дабы избежать, чтобы мои статьи не остались ненапечатанными. Исход войны в Польше, в сущности, был ясен с самого начала, но внезапность нападения без объявления войны сильно облегчила задачу германских армий; кроме того, с первых же дней выяснилось, что оборона могла бы быть продлена только, если бы все польские армии были отведены сряду за Вислу, Сан и Нарев с сохранением Варшавского плацдарма. Об этом я и написал тогда же в одной из моих статей, однако, Польское Главное командование не смогло решиться бросить такие коренные польские области, как Познань и Силезия, и оборонявшие их армии погибли, правда, после доблестной борьбы, но без пользы для общего исхода обороны.
Нападение советских войск на Финляндию, вызвавшее, как известно, исключение России из Лиги Наций, я мог, однако, защищать с большими данными, что я и сделал в статье под заглавием «Audiatur et altera pars» [110] Следует выслушать и другую сторону (лат.).
, за которую меня приветствовали многие русские, как правые, так и левые. История этой войны еще не написана, и первоначальные русские неудачи мне и посейчас непонятны, однако, конечный быстрый разгром финляндцев на линии Маннергейма показал, что западные утверждения о небоеспособности советской армии ни на чем не основаны.
Когда Катя оправилась после операции, мы поехали с ней на несколько дней в S. Vicente, чтобы она там окончательно набралась сил. Сердце ее, однако, все продолжало беспокоить и ее, и меня, и мы обратились к главному специалисту в Сан-Пауло по сердечным болезням профессору Jairro Ramos. Впечатление о нем (Катя лечилась у него должно быть около года) осталось скорее отрицательное. Очень не понравилось нам, между прочим, что он дал Кате лекарство, от которого ей делалось прямо дурно, а потом признал, что многие этого лекарства не переносят и что он на ней его испытывал. Впрочем, это лекарство Кате вреда не сделало, но это был не единственный пример испытывания здешними врачами методов лечения, еще твердо не установленных. Другой видный специалист профессор Васконселос сделал мадам Воиновой операцию, которая ее оставила калекой, не поправив ее здоровья; как потом ей сказал его ассистент, он только попробовал на ней этот метод, оказавшийся неудачным.
Кажется, этой осенью познакомились мы с неким Покровским, бывшим летчиком, ставшим в Бразилии статистиком; он пригласил нас обедать. Кроме нас были там два известных в Сан-Пауло лица, нотариус и политический деятель Rubião и экономист Garibaldi Dautes, специалист по хлопку. Оба они через несколько лет скрылись с местного горизонта, что, впрочем, здесь было довольно частым явлением. Сам Покровский был любопытным типом революционного периода. По-видимому, он действительно был летчиком, попал в Эстонию и здесь стал обслуживать английскую разведку; ходил он якобы в Петроград, но это иными оспаривалось, и полковник Брагин, о котором я еще буду говорить, категорически это отрицал. И Воссидло тоже рассказывал, что был случай, ему лично известный, что Покровский, получив от англичан деньги, чтобы сходить в Петроград, остался в Ревеле. В Сан-Пауло он вошел в связь с местной полицией и осведомлял ее о неблагонадежных русских, причем, по-видимому, на его отзывах отражались очень его личные отношения с ними. В 1939 г все это, однако, нам было еще неизвестно.
Не то в конце этого года, не то в начале следующего появилась у нас чета de Wael, которых мы прозвали «les petits Belges» [111] Маленькие бельгийцы (фр.).
, ибо он был хорошего роста, а она еще выше его, так что везде прямо обращала на себя внимание своим исключительным для женщины ростом. Он родился в Бразилии, где его отец был в Rio одно время преподавателем, и, следовательно, был и бразильским подданным от рождения, и теперь приехал сюда с женой и маленькой дочкой, чтобы не попасть в европейские осложнения. К нам их направила сестра Аносовой — Менделеева, с которой отец мадам de Wael служил в университете лаборантом. De Wael оказались порядочными и работящими людьми, и понемногу стали на ноги. Первоначально он работал в качестве представителя в разных фирмах, а затем его взял к себе секретарем директор завода фаянсовых изделий Матараццо, причем, чтобы дать ему больший оклад назвал его помощником директора. С этим делом de Wael был совершенно незнаком, но с места принялся его изучать и теоретически, и практически, и вскоре смог взяться за самостоятельное руководство таким же заводом недалеко от Сан-Пауло. Дело это он повел настолько хорошо, что потом перешел на другой завод, еще достраивающийся, а позднее, скопив немного денег, завел в Сан-Пауло небольшое дело по выделке фарфоровых мелких вещей декоративного характера. Дело это сейчас в начале, но, кажется, обещает идти недурно.
К концу года относится знакомство наше также с профессором Arbousse Bastior и его женой. Во время войны он оставил свою кафедру философии в Сан-Пауло и стал заниматься французской пропагандой, работая при посольстве в Рио. Профессор он был, как говорили, неважный, и, быть может, это и объясняло его переход на другую деятельность. Через него мы познакомились и с семьей другого профессора-экономиста Hudon, более живого и, по-видимому, также и способного человека. Женат он был на дочери русского еврея, горного инженера Биньямовского, окончившего курс из-за 3-процентной нормы в Бельгии, но не перестававшего относиться к России с любовью. Теперь он работал по своей специальности в штате Сан-Пауло и подчас рассказывал любопытные вещи о той дикости, которую ему приходилось встречать в глуши «interior’а», где жизнь буквально ценилась в копейку. Например, рассказывал он про случай, что племянник, держа в руках ружье, пошутил, что застрелит из него дядю, за что и был на месте застрелен последним, которому пришлось только после этого скрыться на две недели в «mato» (лес). Хлеб в этих местах был совершенно неизвестен. Его дочь была студенткой Сорбонны и вышла замуж за Hudon, который был ее профессором. Также был женат на студентке, но с которой вместе учился, и другой профессор-француз географ Monbeig, быть может, наиболее способный из здешних французских ученых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: