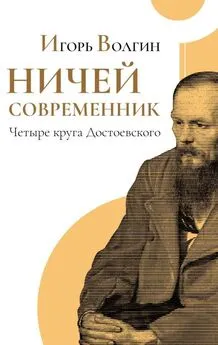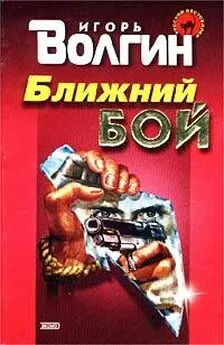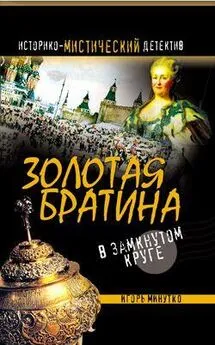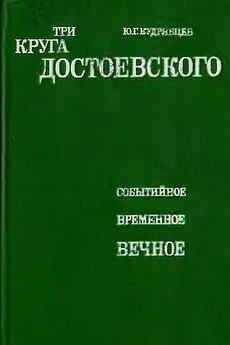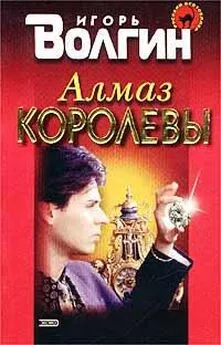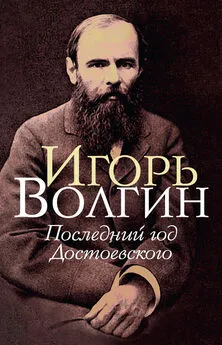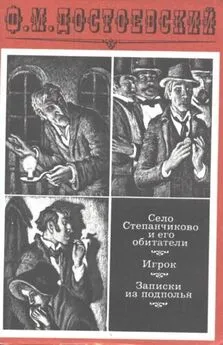Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Название:Ничей современник. Четыре круга Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2019
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4469-1617-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Ничей современник. Четыре круга Достоевского краткое содержание
На основе неизвестных архивных материалов воссоздаётся уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелёв).
Аналитическому обозрению и критическому осмыслению подвергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К вечному спору о «единственно правильной» грамматике – т. е. о том, печатать ли текст «с сохранением орфографического и пунктуационного облика» первоисточника или же учитывать все подвижки в эволюции как самого языка, так и нормативов правописания, – к этому спору Н. А. Тарасова подходит очень взвешенно, «без гнева и пристрастия» излагая различные точки зрения. Но при этом твёрдо настаивает на необходимости «определить наиболее предпочтительные варианты при установлении текста произведения и исправить ошибки прижизненных изданий. Особенно это важно при исследовании интонационной пунктуации Достоевского, которую нередко игнорируют издатели…» Исследовательница убеждена, что «стиль “Дневника писателя” не менее эмоционален, чем стиль напряжённых диалогов между героями в “Преступлении и наказании” и в других более поздних “полифонических” романах Достоевского. Автор в “Дневнике”, хотя и более открыт читателю, но – многолик и так же, как в собственно художественном творчестве, использует приёмы словесной игры, парадокса, интонационного акцентирования идей».
И действительно: если в печатном тексте «Сна смешного человека» до сего времени мы читали: «После сна моего потерял слова», то в результате нового прочтения наборной рукописи должно стоять: «После сна моего – потерял слова». Восстановление такой «мелочи», как потерянное тире, влияет не только на формальную конструкцию фразы. Тире, как справедливо пишет Тарасова, «выполняет экспрессивную функцию, усиливая значение увиденного героем сна».
Ещё более интересен другой пример. В печатном тексте декабрьского дневника за 1877 г. находим фразу: «Помните ли, господа, как ещё летом, еще задолго до “Плевны”, мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования». Интонация кардинально меняется, если, как это делает автор книги, восстановить обнаруженное в наборной рукописи тире: «…явились за Балканами и – онемели от негодования». Кстати, Достоевский предвосхищает здесь ту экспрессивную личностную стилистику, которая – в разной мере – будет присуща В. Розанову, М. Цветаевой, М. Горькому и другим писателям позднейших времен. Именно они чрезвычайно усилили роль этого скромного знака, сделав его действенным элементом своего художественного языка. Нельзя не согласиться с Тарасовой, что утраченные в печати тире «следует восстанавливать в авторском тексте как фактор стиля, интонации, логики суждения».
Это соображение можно в полной мере распространить и на запятую, отсутствие которой (или нахождение не в должном месте) приводит к грамматической ситуации, описанной известной формулой «Казнить нельзя помиловать». В первой публикации «Преступления и наказания» в «Русском вестнике», а затем во всех последующих изданиях значится:
– Как… ты… Как… Кого ты убил? – Порфирий Петрович, видимо, потерялся.
Но в наборной рукописи «видимо» отнюдь не заключено в запятые. «Слово “видимо” в тексте Достоевского, – пишет Тарасова, – не является вводным: по грамматической функции это наречие со значениями “заметно, совершенно, полностью”, по синтаксической – обстоятельство».
Но если одна-единственная запятая (как в рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром», где случайно раздавленная бабочка изменяет грамматический облик мира) воздействует на интонацию и семантику текста, то что говорить о неверном прочтении целых слов? Причём эти искажения закрепляются даже в таких эталонных изданиях, как упомянутое академическое собрание сочинений. Когда в черновиках к «Кроткой» вместо принятого в печати «Мёртвый камень, ответь!» следует читать «Мёртвая косность, – ответь!», а слова «Рыдал, рыдал, бедный» опознаются как «Рыдал, роздал бедным», то обретённые при новом чтении оттенки дороги не только текстологу. Не говорю уже о «женщинах с новейшими машинами», которые на поверку оказываются «женщиной со швейными машинами», или о загадочных «кукольных полях», при ближайшем рассмотрении оборачивающихся именами Кукольника и Полевого. Согласимся также, что слово «приосамиться» имеет несколько иные коннотации, нежели печатаемое по вековому недосмотру «приосаниться».
Таких уточнений в книге Тарасовой великое множество. Но здесь играют роль не только палеографические способности автора – её умение восстановить трудночитаемый текст. Как правило, новым прочтениям даётся исчерпывающее обоснование. Это и чисто текстологические доказательства (анализ написания букв, соотнесение данного места с другими фрагментами текста и т. д.), и реальный комментарий, и подробные историко-литературные экскурсы. «Чистое чтение» – лишь первая ступень исследования; затем – подключается богатый филологический инструментарий. Это плодотворно даже в тех случаях, когда вариант чтения представляется не очень убедительным. У меня, например, вызывает некоторое сомнение слово, которое автор книги прочла как «Паратов» (герой пьесы А. Н. Островского). Тем не менее привлечённый для доказательства материал (отношения Достоевского и Островского, их творческое взаимосуществование и т. д.) чрезвычайно любопытен.
Не могу не сказать об уточнениях в известной «разоблачительной» записи Достоевского о Н. Н. Страхове. Они важны для понимания всего контекста их отношений, а также тех мотивов, которыми мог руководствоваться Страхов, направляя Л. Н. Толстому свое знаменитое – тоже «разоблачительное», но уже по отношению к Достоевскому – письмо [1160]. До сих пор этот текст, находящийся в записных тетрадях к «Дневнику», воспроизводился так: «…Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать». В результате нового чтения фрагмент выглядит следующим образом: «готов предать всех и всё, и гражданский долг, котораго не ощущает и родину , до которой ему всё равно». Предать родину – это, конечно, нечто иное, нежели «продать работу»: вменяемое намерение куда криминальнее. Для психологической характеристики Страхова и для понимания его восприятия Достоевским эта поправка весьма существенна.
Не менее существенны авторские наблюдения относительно подчёркивания слов в рукописи, употребления ударений, порядка записей, вычёркиваний, нетворческих изменений текста, пропусков и т. д. Особое внимание уделено старому спору текстологов: воспроизводить ли черновые наброски в той последовательности, как их запечатлел автор, или группировать «по темам». Точка зрения Тарасовой такова: «…каждый лист рукописи – это эстетическое целое, в пространстве которого недопустима произвольная перестановка записей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: