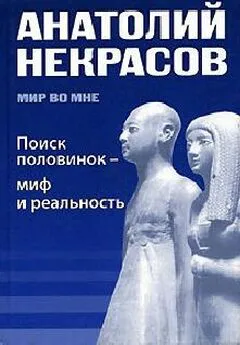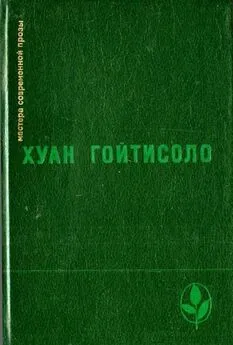Лариса Печатнова - Спарта. Миф и реальность
- Название:Спарта. Миф и реальность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-0860-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Печатнова - Спарта. Миф и реальность краткое содержание
В первой части книги в трех очерках прослеживается развитие важнейших институтов Спартанского государства — царской власти, эфората и герусии. Все три института рассматриваются как формообразующая часть спартанской олигархии. Спарта, оказавшись в состоянии перманентной опасности, изобрела особую модель правления, преобразовав традиционную царскую власть, изобретя эфорат и законсервировав совет старейшин. В работе убедительно показывается, что спартанский способ государственного строительства оказался в достаточной мере эффективным, ибо он обеспечил Спарте долговременное стабильное существование.
Спарта. Миф и реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К такому результату привело искусственно замороженное древнее законодательство с его разрушительной для гражданского коллектива идеей всеобщего равенства. Аристотель отметил, что обязательность равного взноса в сисситии при кажущемся его демократизме была, собственно, недемократической мерой: «Так что получается результат, противоположный намерению законодателя. Последний желает, чтобы институт сисситий был демократическим, но при существующих законоположениях он оказывается менее всего демократическим. Ведь участвовать в сисситиях людям очень бедным нелегко» (Arist. Pol. II. 6. 21. 1271 а 31–35). Это замечание Аристотеля свидетельствует о понимании им социальной сущности спартанского государства: там, где правовое равенство зависит от равенства экономического, с нарушением последнего даст трещину и вся социальная система. Сохранение архаичного ценза при определении гражданских прав в условиях резко возросшего к концу Пелопоннесской войны экономического неравенства привело к тому, что Спарта за полтора века практически осталась без полноправных граждан, т. е. без тех, кто мог называть себя «равными». Такой ситуации, при которой всей полнотой гражданских прав пользовалось, но всей видимости, не более одного процента от общей численности свободного населения, не было ни в одном греческом полисе. Как заметил Ю.В. Андреев, подобное государство «в понимании древних едва ли могло претендовать на то, чтобы считаться настоящей демократией» [257].
Спарта, начав с принятия весьма либеральной и даже демократичной по своему внутреннему потенциалу конституции, в дальнейшем отказалась от движения в сторону демократии. Даже эфорат, первоначально функционирующий как орган спартанского народовластия, находящийся в резкой оппозиции к традиционным аристократическим институтам, уже к концу классического периода растерял все свои демократические черты, став интегральной частью правящей иерархии олигархов. Если позднюю Спарту и можно назвать демократическим полисом, то только но сравнению с восточными деспотиями. Как верно отметила П.А. Шишова, «спартанская "община равных", несомненно, была неизмеримо демократичнее любого древневосточного общества. Однако демократизм Спарты никогда не только не достигал, но даже не приближался к тому уровню, которого достигло развитие демократии в тех греческих полисах, где демос одержал полную победу над родовой знатью» [258].
Глава 2.
Эпоха перемен в эллинистической Спарте: провал реформ и гибель царя-реформатора Агиса IV
Инициатором реформирования спартанского общества был царь Агис IV (правил с 244 по 241 г.), сын Евдамида II из династии Еврипонтидов. О его реформах мы узнаем главным образом из биографии этого царя у Плутарха. Остальные источники к данным Плутарха не добавляют практически ничего [259]. От степени доверия к Плутарху зависит во многом и общая оценка всех тех событий, которые происходили в годы правления Агиса. Общепринятым является мнение [260], что для Плутарха главным источником при написании биографии Агиса был Филарх, современник царей-реформаторов, хорошо осведомленный о спартанских реалиях и давший хоть и пристрастный, но вполне достоверный рассказ о произошедших в Спарте событиях. Чувствительно-романтический стиль Филарха как нельзя лучше соответствовал стилю самого Плутарха. Будучи поклонником царей-реформаторов, Филарх дал позитивную версию деятельности обоих царей. Плутарх это понимал и даже критиковал Филарха за необъективность (Arat. 38), однако следовал в своих оценках именно за ним. У Плутарха Агис — идеальный герой, рыцарь без страха и упрека, руководствующийся в своих действиях исключительно высшими соображениями. Насколько этот романтический ореол соответствовал действительности, может подсказать только анализ текста Плутарха. Однако в целом материал Плутарха с поправками на известную тенденциозность его информатора и своеобразие жанра исторической биографии представляется нам вполне добротным.
В современной литературе оценка реформаторской деятельности Агиса зависит прежде всего от степени доверия к единственному источнику по данному сюжету — биографии этого царя у Плутарха. К несколько искаженным представлениям о причинах и сущности реформаторского движения в эллинистической Спарте приводит иногда стремление некоторых исследователей найти в спартанских реалиях аналогии современным социально-политическим процессам. Это модернизаторство, сопровождаемое излишне критическим отношением к источникам, было особенно характерно для 1-й пол. XX в. [261]. Но рецидивы его встречаются и в настоящее время [262].
Агис IV стал первым царем Спарты, который попытался восстановить ее военную мощь самым радикальным путем — созданием многочисленного гражданского ополчения. Эту задачу невозможно было решить без значительной перестройки социально-экономической структуры общества. Бездействие могло привести не только к потере независимости, но даже к исчезновению Спарты как государства. Требовался совершенно новый подход к критериям, определяющим гражданскую полноценность, чтобы вернуть маргинальным группам гражданского населения их полноправный статус. Требовалось уничтожить ту архаичную цензовую систему при определении гражданских прав, которая в Афинах, например, была отменена еще на рубеже классики и архаики. Таким образом, в основе реформ Агиса, Клеомена, а затем и Набиса лежала одна вполне прагматичная задача — создать боеспособную спартанскую армию для восстановления гегемонии в Пелопоннесе. Так понимал цель реформ Плутарх (Agis 6. 7), так понимают ее, как правило, и современные исследователи [263].
В настоящей главе мы рассмотрим первый этап инноваций в эллинистической Спарте, который был связан с именем царя Агиса IV.
Проблемы, которые встали перед царем-реформатором, не были только феноменом III в. [264]. Они возникли гораздо раньше. Процесс, который привел эллинистическую Спарту к демографическому коллапсу, стал набирать обороты с конца V в. А к III в. Спарта из-за огромного дисбаланса в распределении земли между богатыми и бедными и долгового вопроса оказалась примерно в том же состоянии, в котором большинство греческих полисов пребывало в эпоху архаики. Огромной проблемой стала и катастрофическая убыль гражданского населения.
Об олигантропии (досл. «малолюдство»), т. е. сокращении гражданского населения и концентрации земли в руках немногочисленной спартанской элиты, писал еще Аристотель в 30-х годах IV в. (Pol. II. 6. 11–12. 1270 а 30–35). История военной организации Спарты позволяет проанализировать с большей или меньшей точностью ход и скорость развития этого хорошо известного процесса. Все полноправное население Спарты в начале V в., по-видимому, составляло 8–10 тысяч граждан призывного возраста (Her. VII. 234). В 418 г. их оставалось уже не более 5 тысяч (Thuc. V. 64; 68; 74). Убыль граждан продолжалась в течение всего периода Пелопоннесской войны и спартанской гегемонии. В спартанском войске, сражающемся при Левктрах, насчитывалось не более семисот спартиатов (Xеn. Hell. VI. 4.17). Поражение Спарты в этой битве Аристотель объясняет малочисленностью собственно граждан: «Одного вражеского удара государство не могло вынести и погибло именно из-за малолюдства» (Pol. II. 6. 12. 1270 а 34–35). Ксенофонт в «Лакедемонской политии» называет Спарту одним из самых малонаселенных городов (1. 1). Аристотель, говоря о состоянии современной ему Спарты, заявляет, что она не могла выставить и тысячи гоплитов (Pol. II. 6. 11. 1270 а). Перед нами данные приблизительно за 150 лет. Резкое сокращение числа полноправных граждан вряд ли можно объяснить только внеэкономическими факторами. Длительность и постоянство самого процесса олигантропии свидетельствуют о наличии глубоких кризисных явлений в социально-экономической сфере. Бесспорно, существовала известная связь между упадком гражданского сословия в Спарте и кастовым характером ее социальной политики. Упорное нежелание правящей корпорации расширить круг спартанских граждан или хотя бы положить конец превращению полноправных спартиатов в тех, кто был умален в своих правах (гипомейонов), привело Спарту к катастрофическим последствиям: за полтора века количество граждан призывного возраста снизилось с 10 до 1 тысячи. А к эпохе Агиса эта цифра еще более сократилась. По словам Плутарха, «спартиатов было теперь не более семисот, да и среди тех лишь около ста владели землей и наследственным имуществом, а все остальные нищей и жалкой толпой сидели в городе, вяло и неохотно поднимаясь на защиту Лакедемона от врагов…» (Agis 5. 6–7).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: