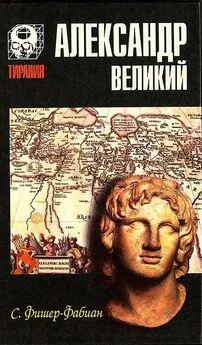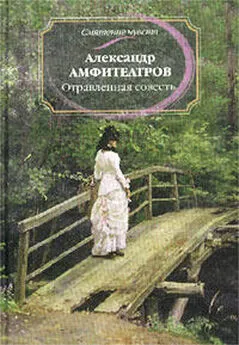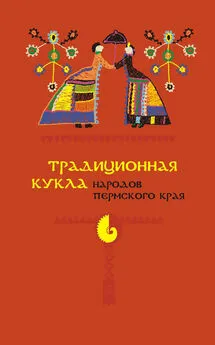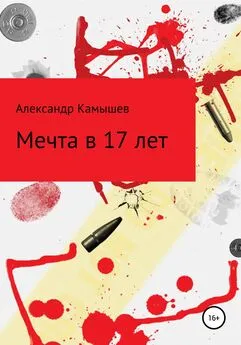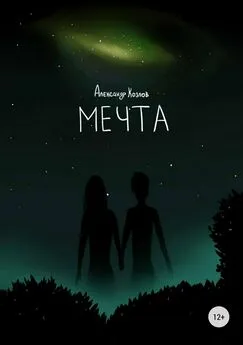Зигфрид Фишер-Фабиан - Александр Великий. Мечта о братстве народов
- Название:Александр Великий. Мечта о братстве народов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русич
- Год:1998
- Город:Смоленск
- ISBN:5-88590-659-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зигфрид Фишер-Фабиан - Александр Великий. Мечта о братстве народов краткое содержание
Александр Великий. Мечта о братстве народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это легенда; однако известно, что не вымышлен ответ Афенодора на предложение Александра просить после победы о какой-либо милости: «Уплати мои долги, которые я сделал в Афинах, о царь!» И это оказалась довольно большая сумма.
В утешение Фессалу было разрешено произнести под звуки флейты Тимофея орфический гимн Афродите, античную форму которого воспроизвел Роже Перефитт: «Небесная, богатая песнями, прелестно улыбающаяся Афродита! — Рожденная морем, богиня зарождения жизни. — Чистая, подруга ночных пиров, — ночная богиня… — подруга праздничных часов любви, — дарительница брака, матерь страстных желаний, — соблазнительница к ложу любви, — таинственная, дарящая очарование госпожа! Незаметная, являющаяся взору, — очаровательно-курчавая, благороднорожденная… — Приди, божественная дочь Кипра, — на Олимпе ли ты сейчас пребываешь… — направляешься ли в свой окутанный фимиамом сирийский дворец… Будь ты также и на кипрском нагорье…»
Каждый в лагере знал ее, эту богиню, которой Парис преподнес яблоко как самой красивой и несравненной: у нее была очаровательная улыбка, немного насмешливая — как, по крайней мере, изображают ее многие художники; она многочисленными любовными интрижками отравляла жизнь своему мужу, хромому кузнецу Гефесту; она была украшена волшебным поясом, чтобы сделать неотразимым искусство обольщения. Каждый, конечно, знал историю ее рождения. Кронос, чтобы защитить мать от грубости своего отца-тирана Урана, отрезал последнему половые органы и…
«…Они, — продолжил свою торжественную декламацию Фессал, — срезанные кремниевым серпом, были сброшены с небес в бушующее море и носились по нему долгое время, а вокруг поднялась белая пена из нескончаемого семени. И из него появилась девушка. Вначале она проплыла мимо святой Киферы, потом приблизилась к Кипру, вокруг которого с грохотом бушевали волны. И здесь соблазнительная богиня вышла на сушу. Там, где оставались следы ее стройных ног, расцветали цветы…»
Произведения таких великих драматургов, как Эсхил, Софокл, Еврипид, не слишком интересовали солдат. Гораздо больше их привлекали выступления лицедеев, фарсы с пантомимой, танцами и песнями, немудрящим языком которых рассказывалось о тревогах и горестях повседневной жизни: любовной тоске и несчастливом браке, сводничестве и воровстве, продажности и обмане. При этом происходившее на сцене отличалось невероятной грубостью, когда актер с поднятым кожаным фаллосом совершал совокупление, говорил непристойности, избивал женщину. На подмостках мочились, справляли большую нужду, занимались онанизмом; исполнительницы-женщины превосходили в непристойности мужчин, танцевали что-то напоминающее современный дикий канкан, обнажая все, что желала видеть публика. Издевались и насмехались над известными личностями, втаптывали их в грязь. Лицедеям была присуща та разнузданность, безудержная злоба, ерничество, которые были характерны только для театра в его самых ранних, примитивных формах.
Постановка трагедии, по мнению Аристотеля, вызывала у зрителей катарсис, очищение души, так как актерская игра способствовала возникновению чувства жалости и отвращения. Если смотреть с психотерапевтической точки зрения, то это был процесс высвобождения эмоций, которые в противном случае могли бы произвести вредное воздействие. Зрелище фарса вызывало что-то вроде бурлескного, трагикомического «катарсиса», когда солдаты могли успокоиться, избавившись от самых дурных и вредных страстей: гнева, печали, тоски по родине и — страха. Наверняка подобные представления этого своеобразного «фронтового театра» были тогда такими же действенными, как и в наше время.
В роскошном шатре, который Великий царь оставил после своего бегства в битве при Иссе, развлекались более культурно и утонченно. Каждый вечер Александр собирал здесь за столом своих друзей. Узкий круг составляли «великие сподвижники», но время от времени в избранное общество допускались и знатные гости: приезжавшие ко двору аристократы, благородные посланники, знаменитые актеры, поэты, которые в это время были в моде, риторы, привозившие из Афин новейшие книги. Женщины появлялись редко, разве что полководцы приводили с собой своих гетер, к чему хозяин относился с неодобрением, но тем не менее такое случалось. Приглашенные чувствовали себя осчастливленными; тот, кто не был приглашен, имел право усомниться в существовании справедливости на белом свете. Но присутствие за столом не всегда доставляло удовольствие.
Как и большинство великих людей, Александр охотнее всего говорил сам. Он также много декламировал из произведений эллинских драматургов — таких, как «Андромеда» Еврипида или «Царь Эдип» Софокла. Он любил провоцировать споры философов, которые испытывали друг к другу взаимную ненависть. Разговоры велись на греческом, а не на македонском языке, что не нравилось старым воякам с македонского нагорья. Не обремененные познаниями, они презирали весь этот греческий сброд с его красноречием и постоянным желанием польстить или угодить царю и, со своей стороны, очень хорошо чувствовали, как презирали их «эти образованные».
Пир начинался с жертвоприношения богам, во время которого чаша с вином переходила из рук в руки. В первые годы, когда эти застолья еще не превратились в безудержные попойки, вино смешивалось с водой в пропорции один к одному. Виночерпии проверяли данное соотношение, прежде чем наполнить этим напитком чаши. Греческие вина были крепкими, особенно тогда, когда в них добавляли пряности и мед, однако Аристотель, конечно, преувеличивал, утверждая, что пятилитрового (по сегодняшним меркам) кувшина отличнейшего «самоса» будет достаточно, чтобы допьяна напоить дюжину мужчин. Как и сегодня, гуляки ссылались на здоровое воздействие вина на организм и цитировали Гиппократа, часто забывая и о других его словах: «При условии, если вино будет потребляться разумно и в нормальном количестве, в соответствии с физической конституцией каждого».
После жертвоприношения богам «пажи» накрывали стол к ужину. Ели то, что могла предложить страна, в которой располагался военный лагерь. Рыбу, морскую или речную, оставляли простым солдатам вместе с ячневой кашей, закуской из бобов, луком, репой и жиром, а также наполненными кровью козьими кишками, для которых был нужен очень здоровый желудок. Предпочтение отдавали говяжьему и овечьему мясу, жарили его на вертеле и посыпали мукой. Также ели свинину, причем пренебрегая молочными поросятами; жирный осел тем не менее считался деликатесом. Ценилась птица — лебедь и павлин, но больше всего — черные дрозды, скворцы, соловьи, перепела. В дошедшей до нас комедии Аристофана приводится меню чревоугодника, состоящее из восьми блюд: рагу из заячьих потрохов, засоленная рыба, фаршированные шейки, жареные голуби, кровяная колбаса из желудков, обмазанные медом маленькие пирожки, инжир и груши, овечий сыр с маслинами. Так как Александр был страстным охотником, к столу постоянно подавали разнообразные блюда из дичи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: