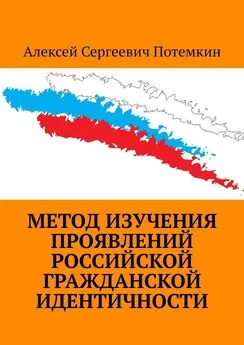Андрей Ганин - Семь «почему» российской Гражданской войны
- Название:Семь «почему» российской Гражданской войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Пятый Рим
- Год:2018
- ISBN:978-5-9908267-1-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ганин - Семь «почему» российской Гражданской войны краткое содержание
Семь «почему» российской Гражданской войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вследствие разрушения мостов наш штабной поезд, поспешая за войсками, делал далекие объезды – Полтава – Кременчуг – Ромодан, Ромодан – Знаменка – и Бобринская (обе в партизанском районе) – Черкассы – Гребенка. В дни боев поезд служил генералу Бредову лишь местом ночлега и пунктом сбора донесений; днем же он объезжал свои боевые колонны, руководя ими. Я всегда сопровождал его, имея, кроме других обязанностей, задачу пользоваться всякой возможностью, чтобы связаться по телефону с полковником Эвертом, узнать у него обстановку и доложить ему, какие распоряжения дал колоннам генерал.
Надо знать, каковы улицы в наших селах; в сухое время – выбоины, косогоры; после дождя – невылазная грязь и глубокие лужи, – чтобы представить себе, каковы были возможности повернуть автомобиль и выбраться из села, если оно окажется враждебным или вражеским. Но Бог нас хранил, и мы ни разу не попали в положение, из которого было бы трудно «выбраться».
Поездки по селам и остановки в них показали мне, насколько изменилась психика крестьян благодаря революции. Они разговаривали с нами – и не только со мною, но и с моим генералом – без прежнего подобострастия; особенно изменилось поведение детей – в старину (т. е. в дни моего детства) они при появлении помещика или начальства жались к родителям или прятались за плетнями; теперь же они лезли на наш автомобиль – на подножку, на крылья, рассматривая пришельцев, машину и мой пулемет. Мне их бесцеремонность больше нравилась, чем прежняя робость.
Однажды, возвращаясь ночью с поездки, мы с генералом уснули, измученные бессонными ночами и напряженною боевою работой. Шофер, будучи городским жителем и не умея запоминать дорогу в поле, на одном перекрестке свернул не к северу, а к югу, и мы поехали прямо в Переяслав, находившийся в руках матросского полка (красного). К счастью, я проснулся и остановил автомобиль. По расчету времени мы должны были бы подъезжать к той в темноту погруженной железнодорожной станции, где стоял наш штабной поезд; между тем впереди я видел огни и небо, освещенное огнями какого-то города. В темноте не было возможности точно ориентироваться, но я предположил, что мы стоим верстах в трех от Переяслава, т. е. от большевиков. Ехавшие нам навстречу крестьяне подтвердили это. Я, не будя спящего генерала, приказал ехать в обратном направлении. Мы поехали, но шофер «обрадовал» меня известием, что бензин при конце. Если ехать по большой дороге, огибая пространное озеро, то до штаба оставалось 30 верст. Я, сокращая путь, повел автомобиль проселочными дорожками и даже напрямик, полями, и все же нам с генералом пришлось последнюю версту идти пешком [1621].
В полночь добрались мы до нашего поезда. Пообедали (мы весь день ничего не ели, поэтому ужин был и обедом), а после этого Бредов, выслушав доклад Эверта о накопившихся в штабе оперативных сведениях, лег отдохнуть, а я еще часа два писал распоряжения на следующий день, донесения в штаб генерала Юзефовича и говорил по телефону или телеграфу с разными штабами. А на рассвете – завтрак и выезд с генералом в поле.
Нет ничего удивительного в том, что накануне я заснул в автомобиле – начиная от Лозовой, я не имел никогда времени для нормального сна. Генерал Бредов с первых же дней невзлюбил полковника Эверта за его склонность к хорошей жизни – Бредов был настоящим аскетом – и он стал игнорировать своего начальника штаба. Часть обязанностей последнего легла на меня, и без того уже перегруженного работой, потому что, выполняя функции штаба корпуса, мы, кроме меня, не имели ни одного офицера, подготовленного для службы Генерального штаба.
Я не тяготился трудностью работы и обилием ее в нашем штабе. Полковник Ширяев [1622](мой бывший начальник по одесскому штабу) трижды присылал ко мне гонцов с предложением перейти в его штаб Донского корпуса – мне сулили штаб-офицерские чин и должность. Но я отвечал, что – неказак и не могу поэтому перейти на службу Всевеликому войску.
Самым ценным человеком в штабе был заведующий разведкой поручик Михаил Артурович Циммерман. Летом 1914 г. он, зачисленный из запаса в один из гвардейских конных полков, был со своим разъездом окружен во время глубокой разведки и, пытаясь прорваться через ряды германского эскадрона, был пикой ранен в голову во время конной атаки и попал в плен. Трижды он бежал из плена, трижды был пойман и сажаем в более строгий лагерь на более суровый режим. Возвратившись, по завершении войны, в Россию, он в начале мая поступил в нашу дивизию. Юрист по образованию, он не успел перед войной защитить диссертацию по международному праву – доктором и профессором этого права он стал впоследствии, в Праге. Он был рассеян, как профессор, и на каждой стоянке, сдавши какой-либо женщине в стирку свое белье, забывал его – время от времени приходилось ему делать новое «приданое». Но, как человек научного склада, он вел разведку очень систематично и всегда располагал нужными сведениями.
Штабс-капитаны Михайловский и Образков (оба пехотные кадровые офицеры) хорошо справлялись со своими обязанностями – один ведал связью, а другой – боевым составом и прочей статистикою. Оперативными мальчиками были толковые, но мало служившие поручики Лопухов, Растегаев и Вегнер. Они годились лишь для дежурства по строевому отделению. Четвертым был поручик Юркевич, которого можно было с разъездом послать с опаснейшим поручением – например, ночью отыскать нашу колонну, почти окруженную неприятелем, и вручить ее командиру боевые распоряжения; за это я взял его к себе из ординар[че] ской команды, где он нес обязанности унтер-офицера. Другой из ординарцев, поручик Ткаченко [1623], за такую же исполнительность и лихость был поставлен при генерале Бредове личным адъютантом.
Инспекторской частью ведал опытный канцелярист капитан Головин. Мой шурин поручик Михаил Калнин был у него казначеем. Большую роль играл наш интендант: чтобы удержать войска от грабежей, генерал Бредов велел ему в каждом завоеванном городе брать под охрану большевицкие склады и затем известную часть их запасов распределять между офицерами и солдатами. Мои купеческие сынки Растегаев и Лопухов делали какие-то коммерческие комбинации с товарами своими и своих сослуживцев; я же все приберегал для подарка Милочке [1624]– в Киеве набрался целый чемодан материй, полотна, ниток. Это было добавлением к тому ничтожному, с ценами несообразному, жалованью, какое получали добровольцы.
Возвращаясь к вопросу о перегруженности работою строевой части штаба, надо сказать, что не только многочисленность подчиненных генералу Бредову частей усложняла наши обязанности: малое количество конных ординарцев и паралич железной дороги, ведшей в тыл, крайне ограничивали возможность пересылки бумаг (приказов, донесений и т. п.), а потому приходилось прибегать к телеграфным разговорам, требующим много времени, в особенности если собеседник, вместо исчерпания каждой темы понаособь, пытается говорить сразу на 2–3 темы. Телеграфный аппарат стоял в купе, смежном с моим, и я во всякое время дня и ночи (если не был в поле) подходил к аппарату. За это генерал Кусонский [1625](начальник штаба группы генерала Юзефовича) прозвал меня «бессонным мальчиком» (мальчиком – за мою моложавость) – он мне об этом сказал в Париже лет через 20, когда мы с ним «вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
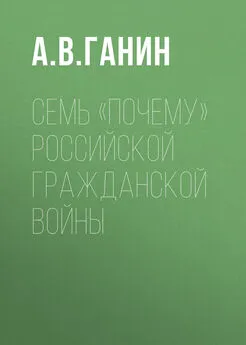
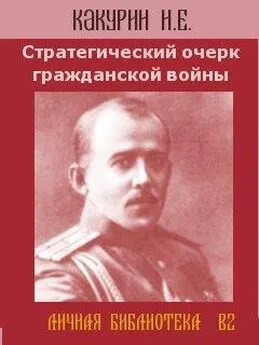


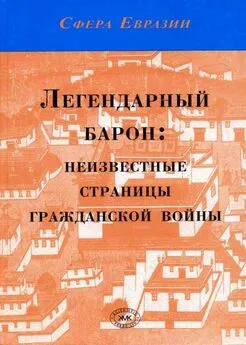

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)