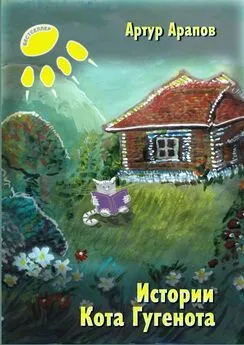Артур Озолин - Из истории гуситского революционного движения
- Название:Из истории гуситского революционного движения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Саратовского университета
- Год:1962
- Город:Саратов
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Озолин - Из истории гуситского революционного движения краткое содержание
Из истории гуситского революционного движения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сохранение в принципе самой идеи активной борьбы за преобразование общества и отражало важнейшее различие между бюргерской оппозицией и таборитами на втором, послехилиастическом этапе гуситского движения.
В противовес прежним утверждениям хилиастов, таборитские синоды запретили теперь священникам лично убивать, ранить кого-либо, участвовать в руководстве войском (статья 2), однако с оговоркой, что в справедливой войне священники могут, вдохновлять воинов на борьбу. Некоторые священники, отмечалось там же, вмешиваются в светские дела и, следовательно, вышли за пределы обязанностей духовных лиц, что неверно. По существу своему и эта статья должна была ограничить значение и влияние наиболее радикальных элементов в таборитском лагере. Отвергалась смертная казнь, что характерно для вальденских требований, но имелась в виду возможность некоторых исключений, когда необходимость казни могла быть подтверждена Новым заветом [745] «Ktoz jsu…», c. 134.
. Отвергалась необходимость следовать нормам Ветхого завета и всем людским законам, противоречащим Евангелию [746] Там же.
. Таким образом, и здесь налицо тенденция решительного вытеснения хилиастических призывов к непримиримой и беспощадной борьбе с членами феодально-католического лагеря. Антихилиастической по своей направленности была и первая статья, в которой отмечалось, что некоторые таборитские священники неверно толкуют священное Писание, что ведет к ненужным жестокостям, самовластию и жадности. Священники должны впредь так толковать Писание, чтобы их поучения и разъяснения были бы в полном соответствии с ним, с жизнью и учением Христа и его апостолов [747] Там же.
.
В отличие от пражских магистров, в качестве источника для деятельности таборитских священников указывалось только Писание, а не установления, самой церкви. Однако в таком духе в период до гуситских войн выступал еще Ян Гус. Бюргерская оппозиция уже отступила от его заветов, тогда как табориты объективно оказались их защитниками. В 5 главе указывалось на то, что таборитские общины притесняли народ, вымогая различные платы [748] Указ. соч., стр. 132.
. Было высказано и записано мнение, что нельзя наказывать, вообще считать виновными тех седлаков, которые, будучи беззащитными перед лицом неприятеля, вынуждены по его требованию нести повинности (ст. 5, 6). Это было направлено явно против хилиастического требования привлекать к суровой ответственности всех, кто вольно или невольно служил врагам. Такого же рода требование было выдвинуто позднее в Великой крестьянской войне в Германии и накануне ее, когда заговорщики и повстанцы провозглашали, что тот крестьянин или горожанин, который не примкнет к ним, будет рассматриваться как враг народа. Таким образом, это требование в различных исторических условиях вовсе не обязательно должно рассматриваться как только хилиастическое. В 7 статье некоторые табориты обвинялись в том, что они жестоко обращались с противниками и их подданными, хотя последние могли быть и сторонниками гусизма, с женщинами, мужья которых оказались в стане врагов. Предписывалось, чтобы впредь табориты не нападали на тех, кто может стать их союзником, кого можно мирным путем привести в лагерь гуситов. Это касалось и подданных, чтобы они не отвечали за грехи их панов. Особенное внимание обращается на тех дворян, которые дадут согласие не препятствовать своим подданным помогать гуситам или обязуются разрешить гуситским священникам проповедовать их идеи в своих владениях. Здесь явно звучало стремление найти возможность мирного соглашения с феодальными элементами общества. Вместе с тем с полной очевидностью проступает типичная крестьянская черта периода феодализма — крайняя доверчивость к врагам, иллюзия, вера в возможность убедить хотя бы часть из них, доказать им необходимость преобразования общественных отношений. Такие крестьянские иллюзии характерны были для народных революционных движений в эпоху средневековья. Во времена восстания Уота Тайлера крестьяне подавали петиции королю. В период Великой крестьянской войны в Германии восставшие крестьяне в свои программные документы включали оговорки и уступки в пользу тех дворян, которые добровольно примут их требования. Они охотно принимали в свои отряды рыцарей, опытных в военном деле.
Шагом назад, и весьма значительным, было и то обстоятельство, что в решениях таборитских синодов уже не отвергалась сама идея подданства. Наоборот, она молчаливо признавалась в противовес прежним хилиастическим требованиям таборитов. Даже в сочинениях Петра Хельчицкого подданство и деление общества на сословия отвергались категорически. Следовательно, и здесь мы наблюдаем значительную эволюцию таборитов вправо. Большое внимание к судьбам седлаков проявлено в рассматриваемых решениях, как нам думается, совсем не случайно. По существу теперь речь идет не о крестьянской бедноте, хотя нередко употребляется термин «беднота» и постоянны ссылки именно на ее интересы. По существу своему клатовские решения выражали интересы зажиточных и частью средних крестьян, которые готовы были признать и подданство и необходимость платить феодалам платежи, признавали социальное и правовое неравенство при условии получения некоторых уступок от феодалов. Сказалось, безусловно, и усиление позиций дворянства, примыкавшего к таборитам.
В дальнейшем предписывалось не предпринимать походов с целью захвата добычи, не принуждать бедных людей насилием выплачивать различные платежи. Такого рода требование встречается в «Воинском уставе» Яна Жижки от 1423 г. Лишь одна из девяти клатовских статей касалась непосредственно проблем, связанных с религиозным учением церкви — это статья о сущности причашения. Отмечалось, что и в этом вопросе имеется много колебаний, и неправильных толкований, и предписывалось чаще причащаться [749] Указ. соч., стр. 138.
, чтобы лучше помнить о Христе.
Очень мало сохранилось документальных данных, сообщающих о таборитской практике послехилиастического периода. Например, в одном из источников говорится о том, как священник Суходольский пожаловался Ольдржиху Рожмберку, что ему некоторые рыбаки отказываются платить рыбную десятину. «Также жалуюсь В. М. (Вашей милости. — А. О .) на рыбаков из Суходола на Кржиху и на Филеше, что не хотят давать мне рыбной десятины, как это установил пан Индржих, луркрабий Лутовский, двое мне дают, а двое отказываются». Далее священник сообщал о том, что рихтарж. из Суходола, Стоклас, при требовании священником этой уплаты «еще грозился мне, говоря: будешь сожжен и со своими слугами» [750] «Archiv ceský», dil 14, 1895, с. 4.
, если будешь требовать с крестьян рыбной десятины. В 1424 г. в Ждицком соглашении между таборитами и пражанами было специально оговорено, чтобы священники «десятины больше с людей не собирали» [751] «Archiv ceský», dil 3, c. 250.
. Пример с Суходольским священником говорит даже о большем, чем только о церковной десятине. Он напоминает о прежнем и давнем народном требовании дать крестьянству свободный и бесплатный доступ к общинным угодьям. Это требование включено было и. в известные нам хилиастические статьи, хотя оно вовсе не носило исключительно хилиастического характера. Достаточно напомнить 12 тезисов немецкого крестьянства периода Великой крестьянской войны в Германии.
Интервал:
Закладка:
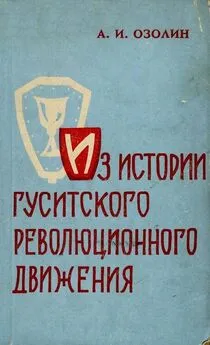
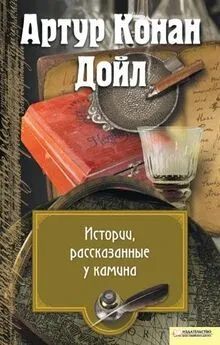
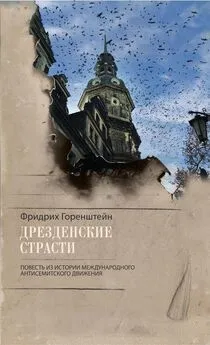
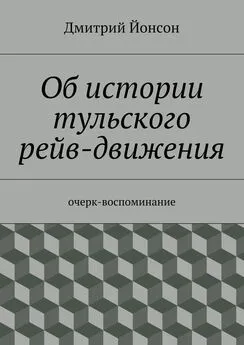
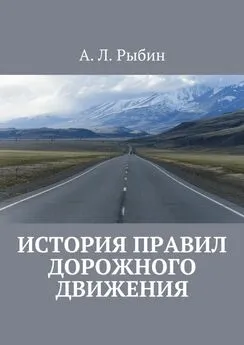

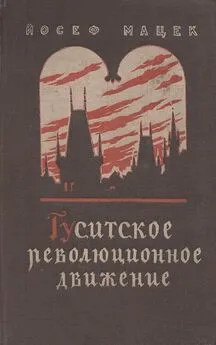
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти [компиляция]](/books/1089569/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert.webp)
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти (СИ) [компиляция]](/books/1089647/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert.webp)
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/1089967/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds.webp)